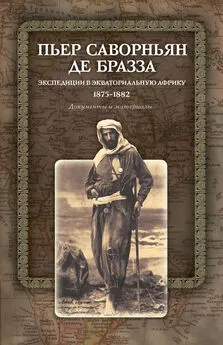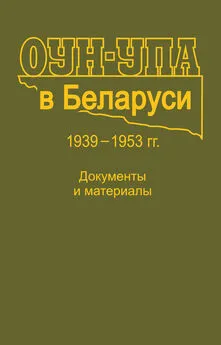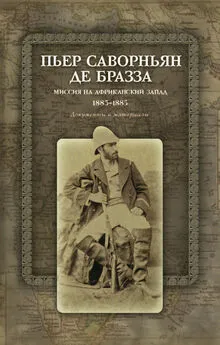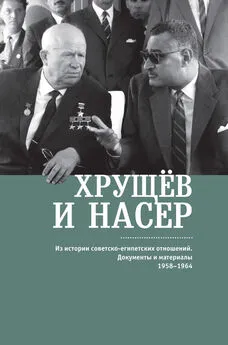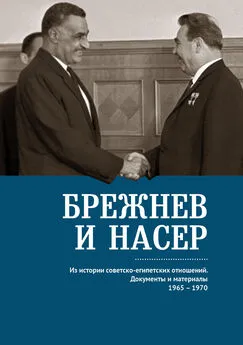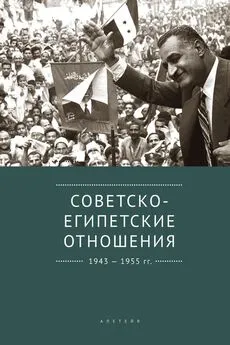Пьер Саворньян де Бразза - Экспедиции в Экваториальную Африку. 1875–1882. Документы и материалы
- Название:Экспедиции в Экваториальную Африку. 1875–1882. Документы и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-0793-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пьер Саворньян де Бразза - Экспедиции в Экваториальную Африку. 1875–1882. Документы и материалы краткое содержание
Для широкого круга читателей, в первую очередь историков, этнологов, культурологов, географов, журналистов.
Экспедиции в Экваториальную Африку. 1875–1882. Документы и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но то были последние крохи некогда процветавшей торговли. Прежнее благоденствие могло возродиться только при условии, если враждующие племена прекратят препятствовать деловым связям. Вот почему мое появление с большим караваном, нагруженным различными товарами, стало событием и было встречено с радостью всеми сторонами.
Я считаю необходимым сказать здесь несколько слов о непрерывной, медленной, но неудержимой миграции племен фанов, которые смогли объединиться, достичь процветания, а затем исчезли, не оставив после себя никаких следов, кроме туманной традиции, разрушающейся под воздействием времени.
Издавна племена внутренних областей мигрировали с северо-востока на запад: инстинктивное чувство толкало их к побережью. Эта миграция гнала вперед или рассеивала по сторонам племена различных рас. В какой-то момент они разделились на две ветви: одни направились к рекам Габон, Муни [509]и рекам севера, другие – по долине Ивиндо к Огове.
Первую ветвь составляли фаны-бачи, или павины, вторую – многочисленная семья фанов-макеев, более известных на берегах Огове под именем оссьеба.
Одно только их имя наводило ужас на прибрежные народы, которые отступали перед захватчиками, имевшими недобрую славу агрессоров и каннибалов.
Каковы же причины этого движения на запад? Какая сила заставляла эти племена покидать бескрайние леса, чей мрачный и дикий гений, казалось, они олицетворяли?
Неужели междоусобные войны вынуждали слабейших уходить как можно дальше от сильнейших?
Неужели эта раса – может быть, единственная, избежавшая нравственной деградации, порожденной рабством, – сохранила в своей первобытной дикости здоровую кровь и поэтому извергала излишки населения; или же ее переселение на запад было вызвано потребностью иметь более легкий доступ к соли и европейским товарам? Трудно с абсолютной уверенностью ответить на эти вопросы. Весьма вероятно, что перемещение различных племен павинов и их смешение имели в своей основе весь комплекс причин.
На наш взгляд, их переселение скорее напоминает медленную иммиграцию, а не территориальный захват.
Они обосновываются в местах, где могут стать торговыми посредниками между племенами: они занимают такие стратегические пункты, которые позволяют им действовать так, как некогда действовали вожди-феодалы, контролировавшие перевал или брод, чтобы брать дань с проезжающих мимо купцов.
В целом павины не привязаны к земле. Когда плантации истощены, а в лесу перебита вся дичь, вождь деревни переходит в новое девственное место, разбивает временный лагерь и открывает «большую охоту». На огромной территории вырубают деревья, а затем в конце сухого сезона сжигают их. Женщины отправляются на выжженные участки, чтобы разбить там плантации для выращивания бананов, маниоки, ямса, бататов и кукурузы [510].
Как только продовольственный вопрос решен, вся деревня снимается с места и селится возле новых полей.
В этой части Африки павины являют собой варварский мир, остальные народы <���в том числе оканда> – цивилизованный.
И вот наконец и те и другие встретились в первый раз на берегах Огове.
Находясь в постоянном контакте с племенами побережья, ведущими торговлю рабами, оканда переняли от них определенную склонность к роскоши, неизвестную во внутренних областях страны. Они стали шить набедренные повязки из небольших квадратиков, сотканных из волокон рафии [511]и подогнанных друг к другу с определенным художественным вкусом. Эта опрятная одежда, черного цвета или ярко раскрашенная, резко контрастировала с набедренными повязками пришельцев из размягченной коры. Женщины оканда со своими волосами, собранными на макушке, вызывали ревнивое восхищение у несчастных оссьеба; их спину едва прикрывала шкура ншери (маленькой антилопы) [512], которую некоторые модницы украшали колокольчиками, ярким жемчугом [513]и медными кольцами.
Не один только цивилизованный мир изобрел шиньоны и накладные волосы и менял моду. Оканда также умели модифицировать свои прически и придавать им все более презентабельный вид [514].
На то, чтобы создать нечто чудесное на голове, у оканда уходило два дня. Приходилось буквально перебирать волос за волосом, сплетать их в тугие косички, а образовавшиеся между ними бороздки покрывать желтой пастой. Затем все косички соединялись вместе на макушке и промасливались жирным веществом красного, что было особенно модно, или черного цвета. Несколько шпилек из меди или слоновой кости утопали в этом монументальном сооружении.
Последним штрихом было наложение желтого грима, что делало кокетку поистине неотразимой [515].
С такой огромной копной на голове было почти невозможно устроиться на спальном ложе, если бы не чурбак, использовавшийся вместо подушки, о который женщина опиралась затылком, чтобы не повредить прическу. Правда, из нее вынимались шпильки, и это единственное, что немного облегчало положение.
На первый взгляд шпильки воспринимались просто как предметы украшения, но по тому, как женщина яростно втыкала их в свое художество, чтобы прогнать оттуда паразитов, сразу же обнаруживалась их практическая польза.
Несмотря на неудобство такой прически, от нее не отказывались; она продолжала оставаться модной, хотя и явно абсурдной, поскольку лишала страдалицу сна и не позволяла ей поворачивать голову ни вправо, ни влево; но, что поделаешь, мода есть мода.
Зато такая пытка оканда сполна вознаграждалась при встрече с павинкой, которую представительница цивилизованного и галантного мира просто уничтожала презрительным взором. И, действительно, эта дикарка со своими простенькими косичками, бесхитростно болтающимися на висках, казалась жалкой; у нее был такой вид, словно она извинялась за свое появление на свет.
Разве она не была смешной с этим волосом, выдернутым из хвоста слона и пропущенным через носовой хрящ? На расстоянии можно было подумать, что она носит усы.
А ее серьги с мелким красным или голубым жемчугом на конце!
А эти толстые браслеты у щиколоток, над коленной чашечкой, на предплечьях и это медное кольцо на большом пальце; какими жалкими, дешевыми, безвкусными они казались рядом с тонкими браслетами оканда, нанизанными один за другим и подогнанными по размеру рук и ног. Павинка хорошо это понимала, она чувствовала себя раздавленной превосходством соперницы; поэтому, чтобы как-то возвыситься в собственных глазах и произвести на других лучшее впечатление, она душилась соком местного чеснока и натирала тело мазью, приготовленной из пальмового масла и красного дерева [516], растертого в порошок [517]. Говорят, что этот состав очень эффективен при кожных заболеваниях, чрезвычайно распространенных в Африке [518].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: