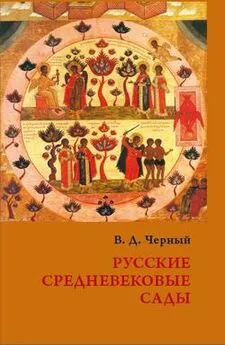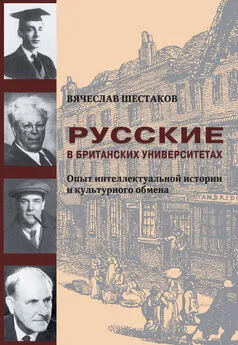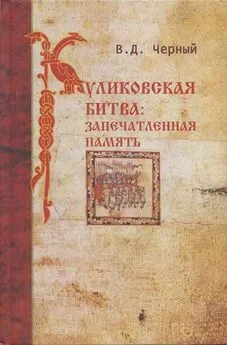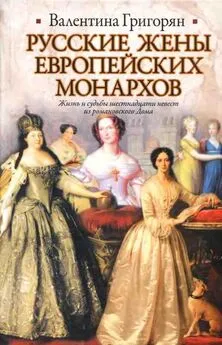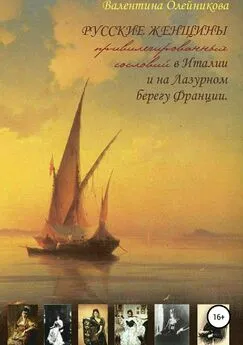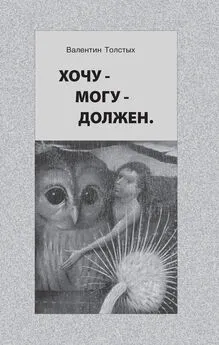Валентин Черный - Русские средневековые сады: опыт классификации
- Название:Русские средневековые сады: опыт классификации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0371-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Черный - Русские средневековые сады: опыт классификации краткое содержание
Книга рассчитана на специалистов и всех интересующихся этой темой.
Русские средневековые сады: опыт классификации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Только влиянием Византии можно объяснить возведение на Руси еще с X в. каменных жилых зданий, предназначенных главным образом для самой знатной части русского общества. Строительство «каменных теремов», которое осуществлялось не только в Киеве, где одних обнаруженных построек X–XII вв. такого рода насчитывается около десяти, но и в других городах – Переяславле-Хмельницком, Чернигове, Смоленске, Полоцке, Гродно, Звенигороде (Южном), Перемышле и Боголюбове. [67] Раппопорт П. А. Русская архитектура X–XIII в.: каталог памятников. Л., 1982. С. 8—10, 13–14, 34–35, 40–41, 56–57, 90, 94–95, 102, 112–113.
Устойчивый интерес, возникший у русской правящей верхушки к каменным гражданским сооружениям, дает основания предположить, что на некоторых из них могли быть обустроены верховые сады, подобные тем, которые украшали в то время дома византийской знати. То, что на Руси были известны верховые сады, подтверждает Изборник Святослава 1076 г., где упоминаются и «садове весяции», т. е. верховые сады. [68] Изборник 1076 года. М., 1965. С. 688–689.
Возможно, в некоторых самых крупных русских городах учитывались правила византийского градостроительства. Речь идет о так называемом «Законе градском», входящем в Кормчие книги, где регулировался порядок строительства и содержания городов, в том числе рекомендации по посадке деревьев в их границах. Например, в одном из пунктов Закона градского рекомендуется сажать деревья на расстоянии от девяти до пяти стоп от чужой границы, с тем чтобы не затенять соседних домов и не перекрывать открывавшихся перспектив. [69] Алферова Г. В. Русские города XVI–XVII веков. М., 1989. С. 46–48.
По мнению некоторых специалистов, «русскую традицию размещения садов в городе можно рассматривать как развитие греко-византийской». [70] Вергунов А. П., Горохов В. А. Вертоград. Садовое искусство России (от истоков до начала XX века). М., 1996. С. 23.
Итак, оценивая истоки русского средневекового садоводства, нельзя не принять во внимание следующие обстоятельства:
Многовековой опыт культивирования определенных плодовых деревьев и кустарников, произраставших на территории Восточной Европы, и те особенности их восприятия, которые укоренились в народной бытовой традиции на многие столетия.
Появление новых видов садов в период становления государства и освоения христианства (прежде всего монастырских и светских городских, «красных»), каждый из которых был отмечен особым своеобразием, а их семантика восходила к общему пониманию райского сада, зафиксированному в Священном Писании.
Восприятие сада в народной культуре славян
Почитание деревьев сложилось еще в дохристианскую эпоху, отдельные элементы которого сохранялись в бытовой среде вплоть до начала XX столетия. Особое отношение к дереву определялось широким кругом качеств, которыми оно наделялось.
Прежде всего оно являлось воплощением мироздания – «Мировое древо». Дерево (а значит, и сад в целом), согласно традиционным народным представлениям, повторяет структуру Вселенной и обозначает три ее уровня: «верхний (небесный, райский), земной (реальный, принадлежащий человеку) и нижний (подземный, принадлежащий миру мертвых)». [71] Цивьян Т. В. Анализ одного полесского текста в связи с мифологемой сада // Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983. С. 97.
Одновременно оно как бы маркирует центр мира, его сакральную сердцевину.
С этой функциональной ролью дерева (кстати, любого, не только плодового) связана его способность к постоянному обновлению, длительной жизни и плодоношению («древо жизни»). Именно поэтому оно почитается как центр родового коллектива, женское божество, воспроизводящее жизнь и последовательно повторяющее все ее стадии. [72] См.: Денисова И. М. Вопросы изучения культа священного дерева у русских: материалы, семантика обрядов и образов народной культуры, гипотезы. М., 1995. С. 96.
Два отмеченных выше аспекта, характеризующие статус дерева, во многом объясняют его место в окружающем мире и ассоциативную связь с различными значимыми объектами и жизненными ситуациями. Подобно тому как сама Вселенная воспринималась «большим домом», такое же значение имело и само дерево.
В традициях многих народов, в том числе славянских, в самой конструкции четырехугольного жилища воплощается идея о ключевом значении священных деревьев. Так, в нем четко выделяется сакральный центр в виде основного опорного столба, обозначающего мировое дерево, поддерживающее небо – крышу Вселенной – точно так же, как опора держит крышу дома. Вокруг «мирового столба», как у «мирового древа», разыгрывался, в частности, один из обрядов белорусской народной свадьбы, получивший название «столбового обряда», который реализовывал стандартный мифологический сценарий: жертвоприношение, заклинание, символическое путешествие по столбу. [73] См.: Никольский Н. М. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности. Минск, 1956. С. 143–174.
В доме значение «мирового древа» переходило и на матицу – основную несущую балку деревянного перекрытия. После ее установки в красном углу избы закреплялась зеленая ветка или деревце, а один из плотников, сидя на бревне, разбрасывал по сторонам зерна пшеницы и хмель, что расценивалось как пожелание богатства и плодородия. [74] См.: Узенева Е. С. Матица // Славянские древности. Энциклопедический словарь. М., 2004. Т. 3. С. 201–203.
«Четырем сторонам света соответствуют четыре священных дерева. с четырьмя божествами – хранителями сторон света». [75] См.: Семека Е. С. Антропоморфные и зооморфные символы в четыре-и восьмичленных моделях мира // Уч. зап. Тартуского ун-та. Тарту, 1971. Вып. 284. С. 92—119; Денисова И. М. Дерево – дом – храм в русском народном искусстве // Советская этнография. 1990. № 6. С. 100–114.
Они обозначали границы воображаемого дома-сада. Примечательно, что таким образом значение эквивалента священного дерева переносилось на сам дом. О таком понимании значения дерева в составе жилища напоминает строительный обряд, зафиксированный этнографами в различных областях России. Согласно этому обряду, в процессе строительства в центре будущей избы ставили небольшое деревце. [76] См.: Зеленин Д. К. Тотемический культ деревьев у русских и белорусов // Известия АН СССР. Отделение общественных наук. 1933. № 6; Денисова И. М. Дерево – дом – храм в русском народном искусстве. С. 105.
Об особой роли дерева в структурной организации жилища свидетельствуют и соответствующие сюжеты в вышивках рушников, росписях прялок и некоторых других изделиях, где отчетливо видно, как из крыши домика прорастает верхушка дерева. [77] Денисова И. М. Дерево – дом – храм в русском народном искусстве. С. 106.
Образ древа жизни рассматривался как оберег, защищающий обладателя данного предмета от всяческих невзгод (цв. ил. 2).
Интервал:
Закладка: