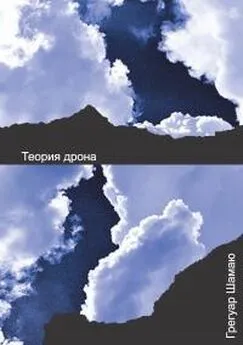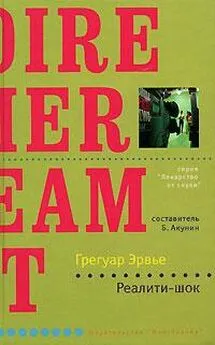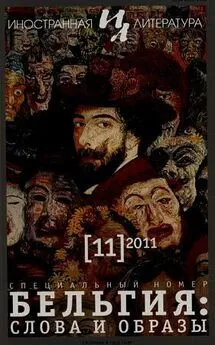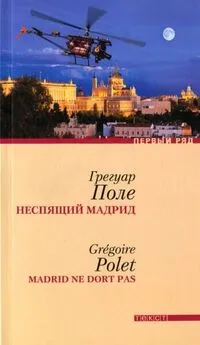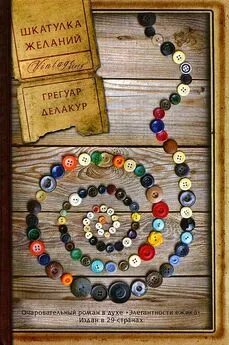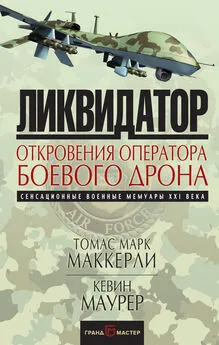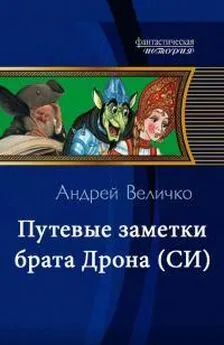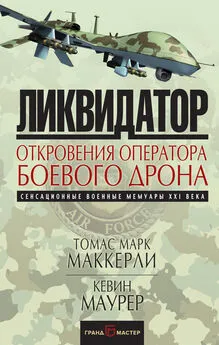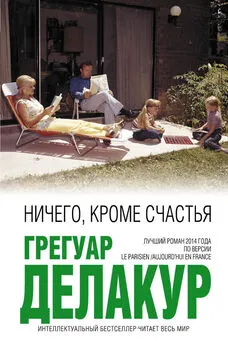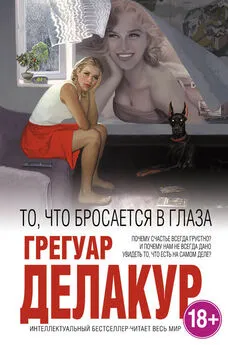Грегуар Шамаю - Теория дрона
- Название:Теория дрона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем
- Год:2020
- ISBN:978-5-91103-519-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Грегуар Шамаю - Теория дрона краткое содержание
Можно ли по-прежнему говорить о войне, когда риск не является взаимным и целые группы людей рассматриваются как потенциальные мишени, перед тем как стать мишенями легитимными?
На наших глазах трансформируются законы войны, которые долгое время определяли военный конфликт как прямое столкновение между солдатами.
Теория дрона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В тот вечер, когда в Судане второго сентября 1898 года состоялась «сражение» при Омдурмане, потери англо-египетской коалиции под командованием Кичнера составили сорок восемь убитых при десяти тысячах дервишей, сраженных свинцовыми очередями из пулемета Максим. Можно привести еще немало подобных примеров.
Использование дронов в этом смысле вписывается в ряд «асимметричных войн» с пулеметами против дротиков и допотопных ружей, этих «маленьких войн», в которых оставалось мало героического и которые уже, собственно, не были «войнами» в том благородном смысле, который Запад по-прежнему вкладывал в это слово, все еще воображая себя Древней Грецией. Если отвращение к использованию не слишком джентльменских приемов и существовало, оно было уместно лишь в ситуациях конфликта между равными, по контрасту с усмирением заведомо более слабых. Как напоминает Юнгер: «С давних пор было принято различать два стиля, высшую и варварскую форму права на войну при наличии определенных конвенций…
В Средние века флот христианской державы мог использовать греческий огонь лишь при встрече с турецкими кораблями.
В XX веке пули дум-дум, запрещенные на европейском театре военных действий, использовали в колониальных войнах, оправдывая это тем, что обычные свинцовые пули не могут остановить натиска дикарей» 235.
И все же любопытно, что эти исторические прецеденты используются в качестве возможного оправдания для их современных аналогов. Именно в этом подтекст аргументов из серии «ничто не ново под луной». Их функция в том, чтобы слегка унять возникшее беспокойство, ссылаясь на прошлое, которое якобы служит правовым обоснованием. Но эта успокоительная прививка истории делается ценой искажения подлинного смысла исторической преемственности. Как объясняет Таляль Асад, на самом деле все сводится к двойной игре: с одной стороны, «психологический эффект, возникающий в ситуации неравных возможностей убийства, смягчается тем обстоятельством, что существует старинная традиция войн против народов, которые считаются отсталыми как в военном, так и в этническом смысле, а в этом случае вполне допускается, что они несут куда более многочисленные потери», с другой же – «стремительно растущий поток литературы о новых военных технологиях практически не уделяет внимания их связи со старыми колониальными войнами» 236. Призрак колониальной жестокости одновременно призывается, чтобы сделать относительным совершаемое сегодня насилие, вписывая его в традиции прошлого, и изгоняется, потому что при этом забывают уточнить, в чем именно эта традиция состоит. Дрон – орудие постколониального насилия, страдающего амнезией.
* * *
230 Jean de Vauzelles, Imagines mortis, Birckmann, Cologne, 1555, ill. 40.
231 Raoul Castex, Synthese de la guerre sous-marine, Challamel, Paris, 1920, p. 121.
232 Voltaire, Essai sur les meurs, Oeuvres completes, Gamier, Paris, 1878, vol. 11, p. 349.
233 Talal Asad, On Suicide Bombing, New York, Columbia University Press, 2007, p. 35.
234 David Bell, “In Defense of Drones: A Historical Argument”, New Republic, January 27, 2012.
235 Ernst Jtinger, Le Nceud gordien, Bourgois, 1995, p. 57.
236 Asad, On Suicide Bombing, 35.

Герб дрона Reaper – «Смерть с косой»
Кризис военного этоса
Технический прогресс, даруя надежду убивать, наверняка не подвергаясь опасности, чреват забвением того, что важнейшим достоинством любого солдата является презрение к смерти.
Капитан Бушри, военный обозреватель, апрель 1914 года 237
Гиг, лидийский пастух, случайно находит в расщелине обнаженный труп гиганта, а на нем золотое кольцо, которое делает его невидимым. Наделенный необыкновенной силой и уверенный в том, что надежно скрыт от людских глаз, он совершает массу злодеяний, убивает короля и завладевает троном. Его противники не могут ни уклониться от его ударов, ни найти от него защиту. Невидимость делает его практически неуязвимым. Поскольку он может действовать, не оставляя свидетелей, это также гарантирует ему безнаказанность.
То, что «Государство» Платона предлагало в форме мысленного эксперимента, дрон реализует техническими средствами.
Как пишут Кааг и Крепе, с учетом того, что «дистанционно управляемые аппараты не несут ответственности за последствия своих действий, а управляющие ими люди находятся на огромном расстоянии, миф о Гиге становится сегодня скорее притчей об антитерроре, чем о терроризме» 238. Избавившись от всех ограничений, которые навязывают отношения взаимности, могут ли обладатели дронов проявить благородство и устоять перед искушением совершить несправедливость, за которую теперь никто не обяжет их ответить? Это вопрос о нравственном риске , к которому мы еще вернемся.
Но эту проблему можно поставить по-другому. Если по-прежнему верно, что «самый сильный никогда не бывает настолько силен, чтобы оставаться постоянно повелителем, если он не превращает своей силы в право, а повиновение ему» в добродетель 239, то уместно спросить: что за добродетель необходима современным Гигам? Поставим вопрос иначе.
Не «может ли невидимка быть добродетельным»? А скорее, «если он по-прежнему хочет говорить о себе как о добродетельном и считать себя таковым, в том числе перед самим собой, что за новое определение добродетели ему необходимо»?
У традиционного военного этоса были базовые добродетели: отвага, самопожертвование, героизм… Подобные «ценности» имели вполне определенную идеологическую функцию. Сделать бойню приемлемой, а еще лучше – достойной славы. Генералы этого особо не скрывали: «Нужно найти способ вести людей на смерть, в противном случае война будет невозможна; я знаю этот способ; он состоит в духе самопожертвования и ни в чем ином» 240.
В подобном представлении «готовность к смерти» является одним из важнейших факторов победы, который лежит в основе того, что еще Клаузевиц называл «нравственной силой».
Это было непререкаемой истиной: «Мы не должны забывать, что наш долг состоит в том, чтобы убивать и быть убитыми.
Мы никогда не должны упускать из внимания этот факт. Воевать убивая и не быть убитым – это иллюзия; воевать так, чтобы быть убитым не погибая, – это нелепость. Поэтому нужно уметь убивать и вместе с тем быть готовым погибнуть самому. Человек, который посвящает себя смерти, ужасен» 241.
В соответствии с классическими философскими идеалами война представляется этическим опытом по определению: вести войну – значит научиться умирать.
Но остается одна проблема: «Как объяснить, почему в войне ратуют за героическое самопожертвование? Не противоречит ли это требованию “сохранения своих сил”?» – спрашивал Мао. Нет, отвечал он сам себе, «не противоречит. Это – противоположности, но они друг друга обусловливают.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: