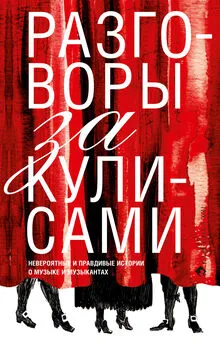Array Коллектив авторов - Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3
- Название:Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алисторус
- Год:2019
- ISBN:978-5-907211-28-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3 краткое содержание
Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся историей России.
Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А.Л. Литвин был не одинок в своем восприятии содержащихся в архивно-следственных делах показаний обвиняемых как заведомо недостоверного источника; в научной литературе неоднократно звучали утверждения, что в этих документах содержится «одна ложь» и что они «не могут считаться полноценным историческим источником» [787]. Военный историк О.Ф. Сувениров в этой связи писал: «Да, многообразнейший материал архивно-следственных дел, в том числе и собственноручно написанные показания многих сотен, а может и тысяч военнослужащих РККА о своем участии в “военно-фашистском заговоре”, существует. И если судить “с птичьего полета”, то можно прийти к выводу о реальном существовании такого заговора. Но мы-то теперь, через 60 лет после появления этой версии получили, наконец, совершенно неопровержимые доказательства, что эта версия насквозь ложная… В огромном количестве случаев эти показания состряпаны следователями особых отделов НКВД при помощи разнообразнейших методов самой вульгарной фальсификации» [788].
При подобном отношении к архивно-следственным делам не приходится удивляться тому, что предпринятая в 1998 г. публикация следственного дела академика Е.В. Тарле, проходившего по так называемому «Академическому делу» 1929–1931 гг. [789], вызвала негативные отклики в прессе. «Зачем нужна публикация самих документов, если мы знаем, какая им цена? Разве недостаточно для «введения в научный оборот» указания шифров этих документов в архиве? — возмущалась О.П. Лихачева (к слову сказать, внучка проходившего по делу академика Н.П. Лихачева). — Я считаю, что от такой публикации происходит огромный (и, может быть, задуманный) вред — возможность унизить и опорочить представителей настоящей интеллигенции» [790].
Публикаторы «Академического дела» Б.В. Ананьич и В.М. Панеях возражали против подобных обвинений. По их мнению, даже сфальсифицированные следственные материалы политических процессов должны были быть опубликованными: ведь отсутствие подобных публикаций увеличивает вероятность того, что в качестве «достоверной» будет воспринята версия следствия [791]. Кроме того, отмечали публикаторы, даже из сфальсифицированных показаний обвиняемых можно извлечь достоверные факты — хоть это и является сложной источниковедческой задачей [792].
Подобное заявление было симптоматичным: в процессе углубленного изучения архивно-следственных дел советского периода историки все чаще убеждались, что даже в заведомо сфабрикованных и неправосудных делах в показаниях обвиняемых встречается информация достоверная и уникальная. Анализируя опубликованные в 1999 г. материалы следственного дела Н.И. Вавилова, историк Я.Г. Рокитянский назвал написанные академиком на следствии собственноручные показания «последними выступлениями ученого». «В записках речь шла работе в ВИРе {Всероссийском институте растениеводства}, о его советских и зарубежных коллегах, зарубежных поездках. В чем-то эти тексты отражали тактику Вавилова на предварительном следствии, в чем-то они полностью соответствовали истине, не преломляясь в кривом зеркале тех обстоятельств, в которых они были написаны. В совокупности эти записки, протоколы и стенограммы допросов, очные ставки — важный источник не только биографии ученого, но и истории генетики и биологии в 20–30-х годах, требующий особо подхода и понимания» [793]. В предисловии к опубликованному несколькими годами позже сборнику материалов следственного дела другого известного ученого, Н.В. Тимофеева-Ресовского, Я.Г. Рокитянский повторил и усилил эту мысль, охарактеризовав содержащиеся в деле протоколы допросов как «ценный биографический материал обо всех этапах жизни и работы Тимофеева-Ресовского в Германии». «По существу, — отмечал Рокитянский, — перед нами целый комплекс неизвестных воспоминаний Тимофеева-Ресовского в форме диалога с лубянским следователем» [794]. Крымский историк С.Б. Филимонов аналогичным образом оценивал «похожие скорее на автобиографию» показания арестованного ОГПУ в 1931 г. профессора П.А. Двойниченко: «они представляют интерес для изучения не только жизни и деятельности видного крымского ученого, но и истории Крыма в целом» [795].
К схожим выводам впоследствии пришел также и историк А.В. Репников, один из публикаторов материалов следственного дела В.В. Шульгина [796]. «Протоколы допросов и собственноручные показания представляют собой источник, близкий по характеру к мемуарам, — отмечал он. — Круг отраженных в них вопросов определялся интересами следствия, целью которого, в частности, было изобличить допрашиваемых в преступлениях. Это были «вынужденные воспоминания», а от ответов подследственных зависела их судьба или жизнь, что не могло не влиять на достоверность сообщаемых ими сведений» [797]. Историк также обратил внимание на то, что показания, данные на следствии, в некоторых аспектах могут оказаться более точными, чем воспоминания. Так, в частности, «при параллельном анализе и сравнении материалов следственного дела и воспоминаний Шульгина удалось выявить ряд случайных или намеренных неточностей, допущенных Шульгиным в его воспоминаниях» [798].
Мнения о ценности материалов следственных дел как исторического источника придерживался и историк А.Ю. Ватлин, исследовавший фонд архивно-следственных дел по политическим преступлениям, переданный в середине 1990-х гг. на постоянное хранение из архива Управления ФСБ по Москве и Московской области в Государственный архив Российской Федерации [799]. Ватлин отмечал: «При работе с архивно-следственными делами нельзя давать волю негативным эмоциям, хотя порой они просто захватывают исследователя. Он должен уподобиться археологу, которому для получения уникальной информации приходится терпеть особые обстоятельства, связанные с ее появлением» [800]. Одним из первых исследователь отметил, что для изучения деятельности органов госбезопасности в период Большого террора 1937–1938 гг. полезно привлекать показания осужденных впоследствии сотрудников НКВД. «На допросах они давали развернутые показания об атмосфере, царившей в органах госбезопасности в тот период, о давлении начальства и методах выполнения спущенных сверху контрольных цифр. Впрочем, и к этим признаниям следует относиться осторожно — методы их выбивания практически не изменились по сравнению с 1937–1938 гг.» [801].
Эту мысль развил новосибирский историк А.Г. Тепляков, активно использовавший показания арестованных чекистов в качестве источника для своей монографии о деятельности органов ОГПУ-НКВД в Сибири. Он отмечал: «Оценивая источники по карательной политике и практике ОГПУ-НКВД, следует учитывать особую ценность протоколов допросов сотрудников госбезопасности и милиции, которые как в 1938–1941 гг., так и в 50–60-е годы давали в НКВД-КГБ показания о своей репрессивной деятельности. Это массовый и очень ценный источник о внутренней жизни карательного ведомства, позволяющий увидеть и понять действие механизма репрессий… Несмотря на необходимость критического подхода к подобным документам, следует отметить, что сведения об атмосфере в органах НКВД, арестах и допросах, уверенности или сомнениях чекистов в их правильности, соревновании в репрессиях, подробности уничтожения людей — все это проверяется и дополняется информацией уцелевших жертв репрессий, материалами внутриведомственных и прокурорских проверок и в основном соответствует действительности. Таким образом, в наиболее существенных аспектах показания чекистов отличаются высокой степенью достоверности» [802].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: