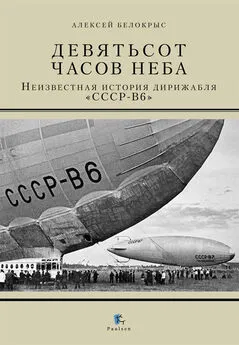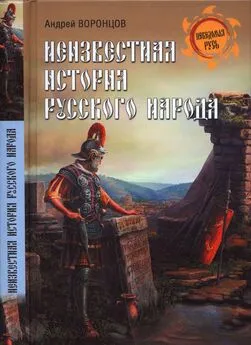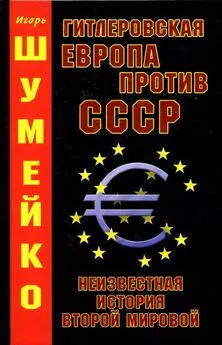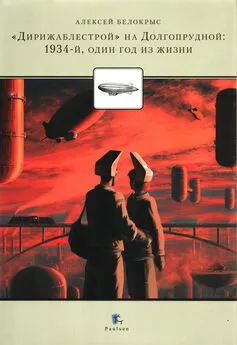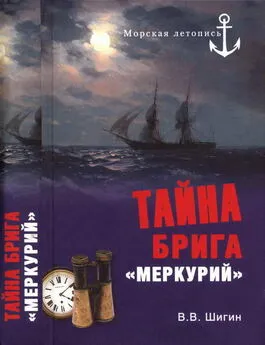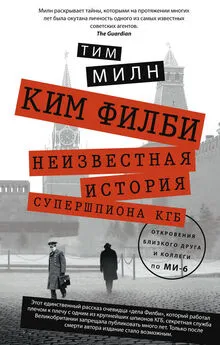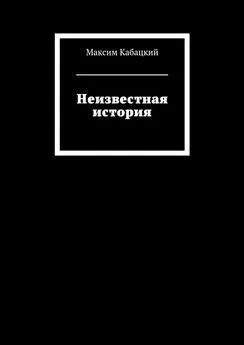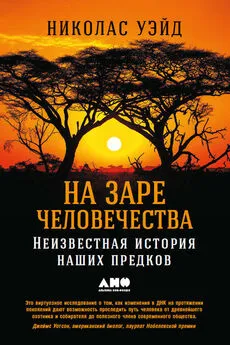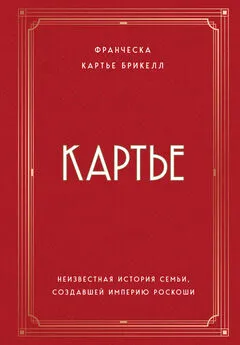Алексей Белокрыс - Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6»
- Название:Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Паулсен
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98797-174-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Белокрыс - Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6» краткое содержание
Гибель флагмана дирижабельного флота обросла разнообразными слухами, в новейшее время к ней не раз обращались любители псевдосенсационных расследований, однако истинные обстоятельства и причины катастрофы оставались неизвестными.
Историк дирижаблестроения Алексей Белокрыс выдвигает свою версию, опирающуюся на различные источники, в том числе десятки архивных документов, многие из которых были рассекречены лишь недавно и вводятся в оборот впервые.
Книга не замыкается на заполярной трагедии, а рассказывает о событиях, предшествовавших постройке дирижабля, о его месте в общей картине отечественного управляемого воздухоплавания, охватывая период с начала ХХ столетия до прекращения постройки воздушных кораблей в 1940 году. Перед вами – своего рода история дирижаблестроения в нашей стране, изложенная в доступной форме, со множеством неожиданных фактов и любопытных подробностей.
Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ответ: О полёте я узнал 4/II ночью. Вернее, о его предположении я мог знать и раньше, т. к. когда мы прочитали в газетах сообщение о том, что на льдине у Папанина очень плохо, то я и тов. Кулагин и тов. Коняшин решили написать письмо тов. Сталину с предложением использовать дирижабль. К этому мы привлекли ещё целый ряд товарищей: Дёмина, Гудованцева, Устиновича, Новикова, и письмо тов. Кулагин отвёз в ЦК. 4/II ночью я работал по кораблю, т. Гудованцев приехал и сказал, что полёт состоится.
О том, что я иду в полёт, я узнал от командира 5/II днём, когда он всех собрал. До этого я точно не знал, пойду или нет, т. к. я был с другого корабля, и на этот корабль был переведён для совершения полёта в Новосибирск и обратно, но он не состоялся, т. к. корабль по нашему предложению пошёл на Мурманск. Вообще же я предполагал, что участвовать должен, т. к. я в экипаже, да и вообще в Эскадре был единственным специалистом по матерчатой части и хорошо знал это дело. Конечно, это должен был учитывать командир Гудованцев, об этом мне также сказал пом. к-ра Дёмин. Кроме того, когда я встретил 4/II т. Харабковского, то в разговоре со мной о том, как мы готовимся, он мне сказал, что я в полёт пойду.
Вопрос: Что вами было проделано для подготовки к полёту.
Ответ: На мне лежала ответственность подготовить и проверить всю матерчатую конструкцию корабля, что я и проделал. Кроме того, я руководил всеми работами в цехе № 2 завода № 207 по изготовлению всевозможных приспособлений для подъёма папанинцев на корабль. Я давал указания и КБ, и в цехе, как и что нужно изготовить из всех приспособлений.
Вопрос: Были ли у вас какие-либо сомнения в материальной части дирижабля или в вопросах обеспечения полёта. В чём они выражались и кому вы их высказывали.
Ответ: Сомнений у меня в плохом состоянии матчасти не было: матчасть была в полной исправности, мы её хорошо приготовили к новосибирскому полёту. Я только на совещании обратил внимание командира т. Гудованцева на то, что неплохо бы было усилить матерчатую конструкцию у узлов шарниров кормового развития – он сказал, что это верно. Инженер завода № 207 т. Пятышев со мной осмотрел эти узлы и сказал, что это не столь обязательно, т. к. эти места достаточно прочны, но мы всё же решили поставить специальные лапки; мы их разработали, и цех № 2 изготовил, но утром 5/II командир Гудованцев сказал, что ставить их лишнее: они ничего не дадут, и к тому же нет времени. Мысль о том, что эти лапки лишние, высказал и корабельный инженер В-6 т. Устинович.
Вопрос: Опишите, как работала материальная часть в полёте.
Ответ: Материальная часть работала изумительно хорошо, на что у нас больным местом на этом корабле считаются моторы, но и они за сутки полёта вели себя прекрасно, так высказывался старший мех. Коняшин.
Вопрос: Подробно опишите полёт (с указанием пункта прохождения, скорости полёта, высоты полёта, видимости, распределения вахты и пр.).
Ответ: Полёт до Петрозаводска протекал в плохих условиях: была низкая облачность, туманы, снег и частичное обледенение корабля. Ночью сильно болтало, т. к. мы пересекали несколько фронтов; при подходе к Петрозаводску полёт стал ровнее, но видимость была очень плохой, земли из-за тумана почти не видели. После Петрозаводска погода была такой же, но синоптик Градус сказал, что она должна улучшиться, и верно – затем через некоторое время она улучшилась, стало хорошо видно до 30 км, облака были высокими, но затем опять видимость стала ухудшаться, начался снег, и вновь мы проходим фронт, как говорил т. Градус.
Пилотские вахты были распределены так:
0–4 час. командир Гудованцев
1 пом. командира Дёмин
4 пом. командира Почекин
5 штурман Мячков
4–8 час. командир Паньков
2 пом. командира Лянгузов
3 пом. командира Кулагин
4 штурман Ритсланд
…и так дальше они чередовались. Командир Гудованцев своей вахты точно не соблюдал, и он больше наблюдал за полётом и кораблём.
Скорости полёта были различны: до Петрозаводска они не превышали 50–60 км [км в час. – А. Б. ], после пролёта его они повысились и доходили до 100–103 км, к концу полёта корабль с путевой скоростью, как мне сказал т. Мячков, летел в пределах 90–95 км.
Вопрос: До мельчайших подробностей опишите всё происходившее на дирижабле, начиная с 16 ч. 6/II-38 г.
Ответ: После смены вахты в 12 часов дня мне, а также т. Дёмину и т. Устиновичу спать не пришлось, т. к. командир корабля приказал просмотреть всё имущество и подготовить всё то, что нужно было оставить в Мурманске, а также установить всё необходимое на корабле для снятия товарищей с льдины. Мы этим все занимались; кроме того, т. Устинович, т. Дёмин и я разрабатывали все случаи [способы. – А. Б. ], какими можно было поднять т. Папанина и товарищей с льдины. Тов. Устинович всё это фиксировал у себя в журнале с нанесением схем и т. д.
В 4 часа наступила моя вахта работы на управлении, я пошёл и заменил на высоте [на штурвале высоты. – А. Б. ] т. Лянгузова; до этого же я менял на штурвале направления т. Кулагина, а тов. Лянгузова менял т. Дёмин. Но тов. Дёмин встать ещё не мог, т. к. продолжал работать по заданию т. Гудованцева по подготовке к Мурманску. На место Кулагина встал штурман тов. Ритсланд, который некоторое время управлял направлением корабля.
В эту вахту я держал высоту по заданию командира корабля на 300–320 метров. Около 6–6.30 т. Гудованцев приказал тов. Ритсланд оставить штурвал и заняться приёмкой у инженера Воробьёва радиополукомпасной установки «Фэйрчайлд», и они с ним ушли в пассажирскую часть. На штурвал направления командир приказал встать мне, а на высоте встал 2-ой командир Паньков.
Когда я стоял на вахте на штурвале высоты, то инженер Воробьёв снимал вторую радиоустановку «Телефункен», т. к. она не действовала, и командир её велел снять и сдать в Мурманске.
Встав на штурвал, я вёл корабль по заданному курсу по компасу вслепую, т. к. вести по ориентирам было нельзя. Была плохая видимость, шёл снег, окна в передней части гондолы ещё раньше были покрыты и льдом, и снегом. Когда я встал на штурвал, то меня очень удивило поведение штурмана т. Мячкова: он без конца проверял снос и менял курсы в пределах от 10 до 30° как в сторону увеличения, а также в сторону уменьшения. Раньше этого с ним никогда не было; если, бывало, он даст курс, то им ведёшь корабль целыми часами, и поправки вносит на несколько градусов, а тут это делал почти ежеминутно.
Когда он промерял снос, то в открытое им боковое окно я увидел, что летим очень низко. Я тут же сказал командиру Гудованцеву, и он приказал подняться выше т. Панькову; затем вторично я это заметил и опять сказал Гудованцеву, и тов. Паньков опять поднялся выше. К моменту катастрофы, мне кажется, корабль шёл на высоте 450–500 метров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: