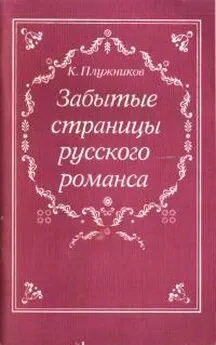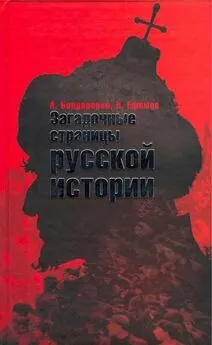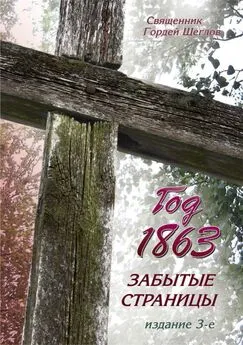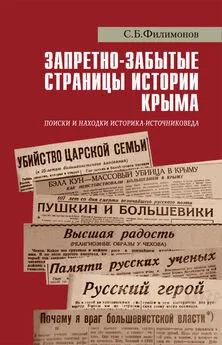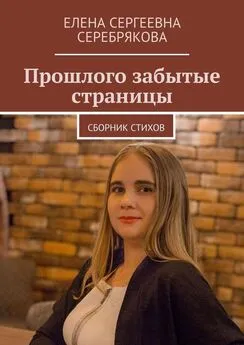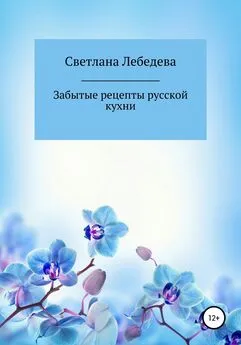Константин Плужников - Забытые страницы русского романса
- Название:Забытые страницы русского романса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Музыка
- Год:1988
- Город:Ленинград
- ISBN:-7140-0028-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Плужников - Забытые страницы русского романса краткое содержание
Забытые страницы русского романса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот это его утверждение может служить ключом для вдумчивого интерпретатора «Элегии». «С одними сожалениями о пролетевшей молодости литература наша вперед не продвинется»,— писал когда-то Пушкин другу. И Метнер пишет романс не в духе классической русской элегии (напомню лучшие из них — «Элегию» Яковлева на слова Дельвига, «Я вас любил» Даргомыжского), а драматизированную исповедь героя, мыслящего и чувствующего масштабно и глубоко.
Много работы предстоит в этом романсе и певцу и пианисту, причем ни один не может быть в ранге ученика, оба — творцы. Даже первоначальный этап овладения музыкальным материалом должен быть совместным, ибо вокальная и фортепианная партии должны быть буквально слитны. Во-первых, следует обратить внимание на достаточно сложный тональный план романса, на многочисленные отклонения и модуляции. Перед вокалистом возникают при этом специфические задачи — вовремя услышать все переходы, заранее подготовиться к смене гармонических красок для того чтобы чисто спеть те фразы, в которых встречаются альтерированные ступени.
Особых вокальных трудностей в этом романсе нет, но певцу необходима точная выстроенность драматургической линии и соответственно оттенков, темповых сдвигов.
«Узник» — последний романс соч. 52, посвящен он А. Лалиберте, канадскому пианисту, композитору, другу Метнера и пропагандисту его творчества.
Мне кажется этот романс автобиографическим и потому особенно интересным. При работе над ним обнаруживаешь красоту страстного чувства, облекающегося в выразительное слово и интонацию. Уже краткое фортепианное вступление передает протестующее состояние героя, голос вступает на мощном восходящем движении (f) мелодии. И этот «прорыв» к свободе скрыто или явно сохраняется во всех фразах, устремленных вверх. Пропевая много раз это произведение, лучше оцениваешь находки композитора в такой трудной области выразительности, как соответствие смысла слова его мелодико-интонационному воплощению.
Метнер приходит к по-своему выразительной вокальной «речи». О «прорыве» к свободе мы уже говорили, теперь сравните начало фраз «Мой грустный товарищ» и «Как будто со мною» (тт. 16—18): они начинаются «стонущей» малой секундой и поются обе как бы в ритмическом замедлении — их надо объединить общим настроением, контрастным к окружающим фразам; или такой пример: в тактах 18—19 на словах «махая крылом» — «покачивающиеся» интонации. Или изумительная находка: в тактах 33—34 устремленная вверх фраза «давай улетим» (по звукам нонаккорда — с него же началась первая фраза «Узника») затем трижды прозвучит у пианиста, затихая — герой как будто теряет решимость, но в тактах 38—40 идет новое накопление сил (у фортепиано), и голос вступает со словами «мы вольные птицы» точно так же, как и в самом начале, но каждая новая фраза должна звучать все мужественнее: две из них начинаются с «болезненного» малосекундового толчка и третья, решающая, устремленная к вершине,— с квартового возгласа.
Фета я чту как очень близкого мне поэта — по открытости, амплитуде и красоте чувств.
Былинки не найдешь и не найдешь листа,
Чтобы не плакал он и не сиял от счастья.
Я чту его и за преодоление — страдания, одиночества и... земного тяготения, ибо во многих своих стихах он рвется за пределы горизонта, ввысь, вдаль.
Но я иду по шаткой пене моря
Отважною нетонущей ногой.
«Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик» — это его высказывание как ключ открывает смысл всего его поэтического радения. Именно поэтический дар осмыслил его жизнь, иначе бы он не написал следующие страстные строки (имею в виду изначальный смысл слова страсть — страдание):
Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем
И в ночь идет,— и плачет, уходя.
И, наконец, самое главное — бесконечная музыкальность Фета. Не случайно его многие стихи стали народными песнями, вдохновляли и композиторов с фундаментальным консерваторским образованием, и многочисленных «дилетантов». Назову лишь некоторые: «На заре ты ее не буди», «Недвижные очи, безумные очи», «О, долго буду я в молчаньи ночи тайной», «Сияла ночь. Луной был полон сад», «Шепот, робкое дыханье», «Я пришел к тебе с приветом», «Я тебе ничего не скажу» и т. д. Уверен, что сами эти названия отозвались в вашей душе музыкой, а в конце XIX века (во многом именно через романсы) Фет стал одним из любимейших в демократических кругах поэтом.
Но это лишь один слой понимания музыкальности поэта, советую вдуматься в следующее его высказывание: «Все вековечные поэтические произведения — от пророков до Гёте и Пушкина включительно,— в сущности, музыкальные произведения ...меня всегда из определенной области слова тянуло в неопределенную область музыки, в которую я уходил, насколько хватало сил моих». И еще, более существенное,— музыка была для него мерилом художественной правды: «Ища воссоздать гармоническую правду, душа художника сама приходит в соответствующий музыкальный строй... нет музыкального настроения — нет художественного произведения». На эту тему я готов говорить бесконечно. Поэтому с большим интересом, даже с пристрастием, впервые знакомился я с романсами Метнера на стихи Фета. Не могу не признаться, что именно его романсы, а не Танеева или Аренского, вновь вызвали размышления о смысле поэтического творчества Фета. У Танеева всего четыре романса на стихи Фета, у Аренского их много, но они слишком обычны, даже обыденны, хотя среди них есть и премилые. Романсы Метнера вызывают к себе как восторженное, так и отрицательное отношение, что также будит мысль, тренирует чувство. Всего Метнер написал 10 романсов на слова Фета: «На озере» (из Гёте) издан в 1904 году (соч. 3, № 3), остальные в период 1912—1920 годов: «Я потрясен, когда кругом», «Только встречу улыбку твою», «Шепот, робкое дыханье», «Я пришел к тебе с приветом» (соч. 24, № 5—8), «Нежданный дождь», «Не могу я слышать этой птички», «Бабочка» (соч. 28, № 1—3), «Экспромт», «Вальс» (соч. 37, № 3—4).
Начну с неудачного, на мой взгляд, романса «Я пришел к тебе с приветом» (соч. 24, № 8).
Около трех десятков композиторов вдохновились этим стихотворением. О чем оно — о любви или о природе? О природе, решают литературоведы и методисты, и помещают его в хрестоматию для детей. Но ведь оно — и о любви, о том, как впечатления, ощущения, вызванные природой, сливаются с духовным миром человека, его любовью, и как результат — вдохновение, готовность к творчеству. Прочтите стихотворение еще и еще раз, ощутите это растущее волнение: начиная свой монолог, герой влеком как будто лишь желанием сообщить любимой, что «солнце встало», но вместе с оживающей под его лучами природой в герое растет чувство упоения любовью, и вот уже в нем «песня зреет». На этом стихотворение заканчивается! А что за песня — пытались угадать композиторы, среди них и Метнер. Это один из немногих романсов, написанных им для низкого голоса — баритона или даже баса, что определило неудачу композитора. Несмотря на указанный в начале темп и характер исполнения, романс мелодически тяжеловесен: мелодия как бы топчется на месте, большая часть фраз звучит в разговорном диапазоне, особенно мешает выдержанный от начала до конца принцип: нота — слог. Особенно странно звучат строки «рассказать, что отовсюду на меня весельем веет» (тт. 34—37), мелодически повторяющие начало, звучащие в сумрачном регистре совсем не весело.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: