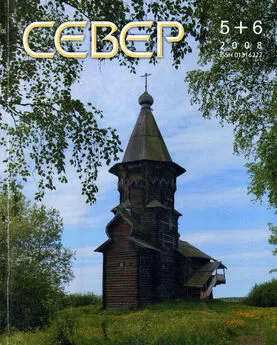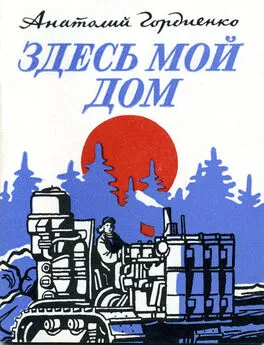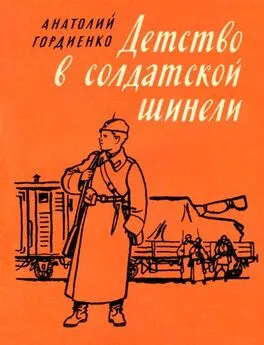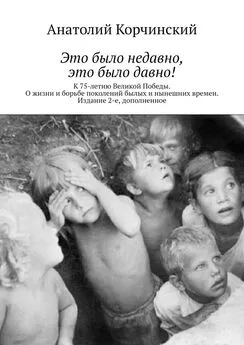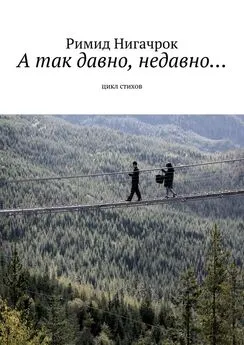Анатолий Гордиенко - Давно и недавно
- Название:Давно и недавно
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Острова
- Год:2007
- Город:Петрозаводск
- ISBN:978-5-98686-011-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Гордиенко - Давно и недавно краткое содержание
1940 гг.
Книга „Давно и недавно“
это воспоминания о людях, с которыми был знаком автор, об интересных событиях нашей страны и Карелии. Среди героев знаменитые писатели и поэты К. Симонов, Л. Леонов, Б. Пастернак, Н. Клюев, кинодокументалист Р. Кармен, певец Н. Гяуров… Другие герои книги менее известны, но их судьбы и биографии будут интересны читателям. Участники Великой Отечественной войны, известные и рядовые, особо дороги автору, и он рассказывает о них в заключительной части книги.
Новая книга адресована самому широкому кругу читателей, которых интересуют литература, культура, кино, искусство, история нашей страны.»
(Электронная версия книги содержит много фотографий из личного архива автора, которые не были включены в бумажный оригинал.)
Давно и недавно - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот такой рассказ. Перед прощанием я сфотографировал Арвида Рудлинга.
Вернулся я в родной Петрозаводск и тут же приступил к поискам. Вот имена свидетелей:
Симо Суси — адъютант Антикайнена. В 1935-м — командир Красной Армии.
Ханнес Ярвимяки — боец отряда. В 1935-м — директор Кондопожской бумажной фабрики.
Степан Иванов — возчик обоза отряда из деревни Кимасозеро.
Фёдор Муйсин — фельдшер из Кимасозера.
Мои поиски зашли в тупик. В живых из них никого не было. Когда и как они погибли, вы, наверное, догадываетесь. Ведь вскоре после их возвращения домой пришёл к нам памятный 1937 год. Ехали верными борцами за Советскую власть, ехали выручать своего легендарного командира, а вернулись, конечно же, шведскими, или финскими, или, ещё того хуже, японскими шпионами.
Ненадолго пережил своих боевых друзей-свидетелей и Тойво Антикайнен, новоиспеченный депутат Верховного Совета СССР от недавно учреждённой Карело-Финской Советской Социалистической Республики.
Погиб Тойска, так звали его соратники, осенью 1941 года при странных обстоятельствах: небольшой самолёт, на котором он летел по срочному вызову в Москву, разбился близ Архангельска.
Так и не ушли письма к Арвиду Рудлингу в Стокгольм, на улицу Барнхусгатан, дом шесть, ни от тех, кто с ним вместе защищал Главного Красного финна, ни от меня.
Что я мог написать? Правду? Напуганные на всю жизнь, мы, рождённые в начале тридцатых, уяснили раз и навсегда одну страшную истину: молчание — золото. Наши души изуродованы страхом. Он живёт в нас, и никуда от него не деться.
Мичман с Соловецких островов
Во второй половине июня на Соловецких островах стояла отличная погода. Солнце припекало так, что, посмотрев на пляж у Святого озера, можно было подумать, что ты находишься не у полярного круга, а где-либо на Чёрном море.
Но вдруг на остров налетели тучи. Мелкий дождь мешался с мокрым снежком, стало неуютно и тоскливо. Соловецкий кремль стал хмурым и унылым. Бродить по широкому пустынному двору не хотелось.
Холодный дождь сеял и второй, и третий день.
«На Соловецких островах дожди, дожди…» — пели заунывно под гитару московские туристы, заточённые непогодой в бывших монашеских кельях, а ныне тесноватых номерах Соловецкой турбазы.
Мы сидим тоже в келье. Мой сосед по койке, Константин Алексеевич Савушкин из Петрозаводска, зевая, глядит в одно-единственное окошечко, выходящее к Преображенскому собору.
— Вот и когда-то, — медленно тянет слова Константин Алексеевич, — небеса начнут дождить — мы враз по кельям разойдёмся и тихонько сидим, жития святых читаем. А кто спит, конечно. Кормили — не жалуюсь. Бывало, селёдки соловецкой объешься, в трапезной тож дружбу надо иметь, пить хочется страх как, да по воду лень идти — дождь. А селёдка та… Эх, брат ты мой сердешный… Не пробовал? Можно сказать, что и жизнь неполная, коль не откушал ейной… Возьмёшь в пальцы, а она течёт прямо, жирная… Нынче интересовался у соловецких мужиков, говорят, мало стало… Выловили. Так, поди ж, шестьдесят лет прошло с тех пор…
Старика Савушкина на остров привела не модная туристическая тропа. Приехал он повидаться с юностью своей. Больше полувека назад жил он здесь в монастыре, был послушником. Юношеская память крепкая, на всю жизнь. Константин Алексеевич проворно бегает по монастырю, увлечённо рассказывает и показывает — лучше гида не придумать.
— Вот здесь сапоги тачали, тут пекарня в подвале была, а там вона — трапезная, столовая по-теперешнему, — степенно вещает старик, и лицо его проясняется, глубокие морщины разглаживаются.
Поднимаемся на Прядильную башню. Старик припадает к узкой бойнице.
— Вон тама приставал «Михаил Архангел». Радовались монахи — богомолки приплыли! Эх, времечко было, — захохотал, потирая ладони и заговорщицки подмигивая, Савушкин.
…Дождь за окном не унимается. Не унимается и бывший монах, мой сосед, докучает разговорами. «Да разве вы не понимаете, что ваша молодость прошла впустую? Большая жизнь пронеслась мимо, как курьерский поезд, лишь обдав вас паром да мелким песком!» — хочу крикнуть я. Но мешает привитое родителями чувство уважения к сединам, к старости. Я молча выхожу из кельи, иду по гулкому коридору, отчётливо слышу всё ту же песню о Соловецких островах, которую снова и снова заводят московские студенты:
Не слушай ветреных подруг про гиблый край,
Не опускай в бессильи рук, ты приезжай.
У небольшого причала, невзирая на дождь, оживлённо. Разгружается большое серое судно со странным названием «Ламинария». Один за другим подходят самосвалы, и кран достаёт из трюма громадную верёвочную сетку, набитую тёмной сушёной травой, похожей на кукурузные листья. Теперь вспоминаю: ламинария — это морская трава, из которой получают йод. Самосвалы везут траву не очень далеко, километра за полтора, на завод, перерабатывающий морские водоросли.
— Эй, братишка! — крикнул кто-то рядом густым прокуренным басом. — Кликни капитана, скажи: соловецкий мичман пришёл!
Я повернул голову. Первое, что бросилось в глаза — борода — седая, аккуратная, я бы даже сказал, элегантная этакая шкиперская борода. Да ещё старая «мичманка» с потускневшей кокардой Военно-Морского флота. Старый моряк расстегнул плащ, достал портсигар, закурил, воткнув сигарету в длинный янтарный мундштук. Когда он прятал портсигар в карман, я заметил на чёрном кителе орден Красного Знамени первого образца, без колодочки.

Тут выскочил капитан «Ламинарии», молодцевато прыгнул через борт, пружинистым военным шагом подошёл к старику.
— Ждём вас, товарищ мичман, — сказал почтительно капитан. — Позвольте вам помочь, — и протянул руку.
— Сам взберусь, — рассердился мичман, потом вдруг примирительно, и мне даже показалось, что в голосе его возникла заискивающая нотка, быстро заговорил: — Слышь, браток, я вам лекцию прочитаю, а вы возьмите меня с собой на Муксалму. Морем подышать хочу, настоящим морем, понимаешь…
— Так ведь штормит, товарищ мичман, — огорчённо заговорил капитан.
— Да я всю жизнь на море прожил, салага! — снова взорвался старик.
— Хорошо, Карл Христианович, — смирился капитан.
— Ты забыл, как меня величать надо, — заворчал старый моряк.
— Извините, товарищ мичман…
Они взобрались на палубу и скрылись в рубке.
— Кто сей? — спросил я на старинный манер у шофёра самосвала.
— Наш мичман, соловецкий мичман. Зимний брал, Ленина охранял. Старик — то что надо… Нам, молодым, сто очков вперёд даст…
…Через два дня я сидел в небольшой уютной квартире мичмана Карла Христиановича Сермайса и слушал его рассказ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
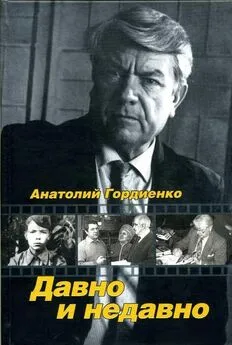
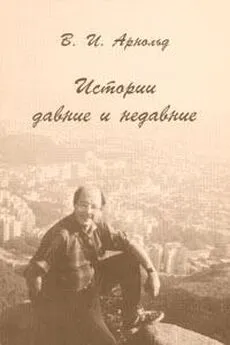
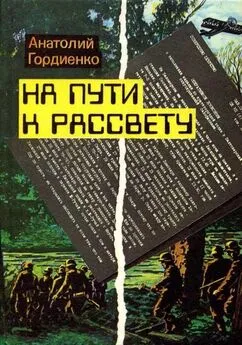
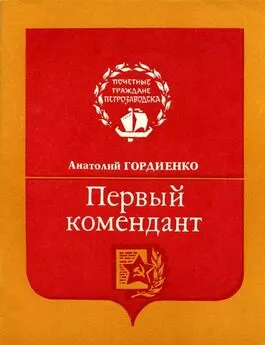
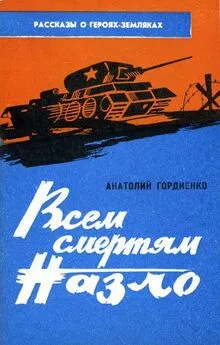
![Анатолий Гордиенко - Минута жизни [2-е изд., доп., 1986]](/books/1082331/anatolij-gordienko-minuta-zhizni-2.webp)