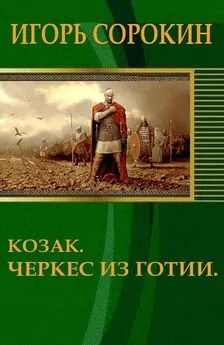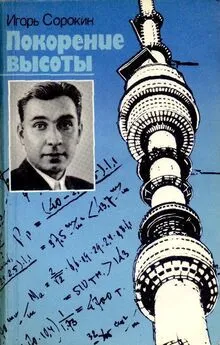Игорь Сорокин - Художник каменных дел
- Название:Художник каменных дел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Сорокин - Художник каменных дел краткое содержание
О сложной судьбе выдающейся личности, о трудных поисках и счастливых находках рассказывает эта книга. Повествование доведено до 1930 г.
Адресована широкому кругу читателей.
Художник каменных дел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
При этом усилия зодчего совершенно не чувствовались, так легка и естественна была его манера. Сильные и в то же время легкие очертания щипцовых завершений фасада то энергично поднимались вверх, как у южного придела храма, то мягко, как бы оплавленно, стекали вниз.
«Он всегда видел свою постройку в натуре, а не только в чертеже, — писал П. И. Нерадовский. — Давая шаблон мастеру, он добивался точного, безукоризненного его выполнения, а если надо было показать, как сделать, сам брался за стену, за лоток со штукатуркой».
Когда стройка уже бурно кипела, Алексей Викторович все продолжал искать, как улучшить проект, пробуя одно за другим новшества изо всех областей, хоть как-нибудь соприкасающихся со стройкой, будь то область художественная или инженерная. Удалось уговорить скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова — и уж для него готова работа; услышал о рациональном методе приготовления бетонной смеси — немедленно опробовал его.
В забрызганной известкой поддевке он шустро взбирался на леса, сам поправлял кельмой или мастихином гипсовый узор, заглядывал в известковые ямы, браковал несортовой кирпич, ругая поставщиков. Рядом с ним и рабочие больше старались, видя, как глубоко переживает он каждый их промах. Ни себе, ни своим помощникам не позволял Алексей Викторович отклониться от цели.
Это было от подвала и до венца его создание, в котором он добивался «художественной красоты впечатления и построения какими хотел средствами, не заботясь о том, чтобы работать в стиле какого-либо века», как писал он сам.
Особенно заботило его, как воспринимается зрителем архитектурная форма, сколь сильна острота эмоционального воздействия, насколько глубоко чувствуется скульптурная выразительность сооружения.
И вот строение освободилось от лесов. После полудня оживал самый живописный — западный — притвор. «Под маслено-текучими лучами полуденного солнца «вперебежку» играли окошки, чаруя своеобразием ритма, и до самого заката можно было наблюдать игру света и тени на белоснежной поверхности стен», — писал И. Э. Грабарь. До тонкости изученная в Овруче старинная кладка стен была с такой тщательностью воспроизведена здесь, что кирпич и белый камень стен обрели «невоспроизводимую» скульптурную мягкость и солнечный свет «танцевал» на поверхности стен.
Чтобы обострить эмоциональное воздействие, Щусев решил углубить контраст перехода белой плоскости стены в тень, смело введя в экстерьер металлические детали — фигурные козырьки над каменной резьбой, чеканные рельефные бляхи на дверях. Даже медные шляпки гвоздей были включены в орнамент. Особенно выразительной получилась чеканка под тисненую кожу, украшающая ворота.
«Навеянная воспоминаниями о Пскове, — продолжает И. Э. Грабарь, — эта постройка производит впечатление вдохновенного сонета, сложенного поэтом-зодчим его любимому Пскову. Она также не простое повторение или подражание, а чисто щусевское создание, выполненное с изумительным чувством такта и тончайшим вкусом».
Он любил свою «Марфу», как собственное дитя, и вложил в нее все лучшее, что было в нем самом. Казалось, белокаменная Русь подарила «Марфе» самые прелестные свои узоры — прихотливые кружева с изображением растительного орнамента, диковинных птиц и зверей.
Алексей Викторович был так увлечен внешним убранством «Марфы», так вдохновенно обыгрывал ее объемы, высвечивая самые яркие ее стороны, что на время как бы забыл о внутреннем. Непосвященному, вошедшему в здание, могло показаться, что алтарная часть, как клещами, зажата оборванными пилястрами, трапезная точь-в-точь копирует огромный сундук, подпружные арки, опорные столбы задавливают основной объем, глаз везде натыкается на углы и препятствия...
Но странное дело, Щусеву все это нравилось. Он счастливо потирал руки, любуясь своей работой, он был уверен, что ему удалось схватить дух старины, услышать древний русский мотив.
Для этих стен требовалось суровое письмо, нужен был сильный мастер, продолжатель традиций Феофана Грека. Не таков был Михаил Васильевич Нестеров — «византийское суровое письмо» было чуждо ему.
А мастер, которого ждала «Марфа», в это самое время находился здесь, в стенах обители. Два начинающих художника, два брата помогали Нестерову в росписи «Марфы».
Нестеров любил братьев Кориных — Александра и Павла, верил в самобытный талант каждого, помогал им, но у него и в мыслях не было, что один из них — Павел Дмитриевич — сумел бы сделать ансамбль «Марфы» завершенным, таким, где внутреннее убранство было бы органично слито с архитектурой.
В июне 1910 года Михаил Васильевич вернулся из Италии с готовыми эскизами росписи Марфо-Мариинской обители. Он был доволен своей работой. Что же касается Щусева, то эскизы вызвали у него горячий протест. Однако силы были неравными, к тому же Алексей Викторович отлично понимал, что этим почетным заказом он целиком обязан своему старшему другу, человеку выдающихся достоинств, воистину наделенному «небесным» талантом.
Зодчий настойчиво доказывал, что здесь нужна не камерная живопись и не «итальянская», а русская. Но у Нестерова не было ни желания, ни времени переделывать свою работу, хотя он с уважением отнесся к мнению зодчего.
«Церковь вышла интересная, единственная в своем роде, — писал Нестеров. — ...В росписи храма мы не были солидарны со Щусевым. Я думал сохранить в росписи свой, так сказать, «нестеровский», стиль своих картин, их индивидуальность, хорошо сознавая всю трудность такой задачи».
Окруженная деревьями, «Марфа» подсыхала медленно. Первым высох и стал годным для росписи купол, затем подсохли центральная заалтарная апсида и конха — полусфера над ней. Алексей Викторович настаивал на монументальной живописи. Эскизов для подкупольной росписи у Нестерова не было, и он, вняв настояниям Алексея Викторовича, создал композицию на тему росписи Новгородской Софии. «...Работается легко, весело, жаль, что темно и день мал», — сетовал Михаил Васильевич.
Щусев несказанно обрадовался, увидев роспись в натуре. Страшно и проникновенно глядели с верхотуры прекрасные глаза. Тесные объемы свободного пространства перед алтарем как бы сковывали зрителя по рукам и ногам, и некуда было укрыться от этих пронзительных глаз, в которых застыла вечность.
В конхе восточной апсиды Нестеров создает одно из самых вдохновенных своих творений — образ матери с тонкими чертами красивого узкого лица, на котором, как два голубых родника, сияют большие печальные глаза. Их печаль светла. Они излучают столько нежности, что, кажется, она не уместилась бы во всем земном пространстве.
Алексей Викторович ликовал. Он радовался удаче друга больше, чем радовался бы собственной удаче.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
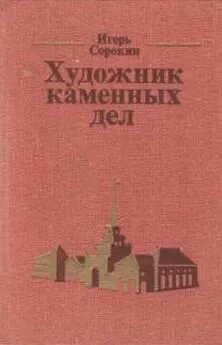
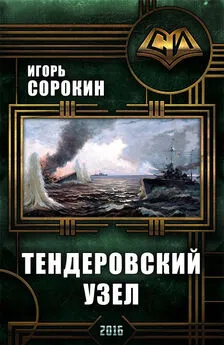
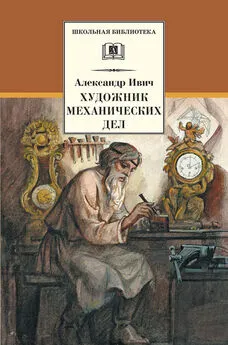
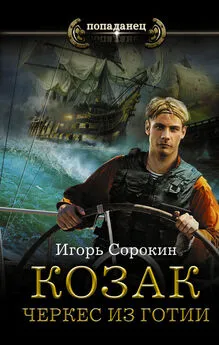
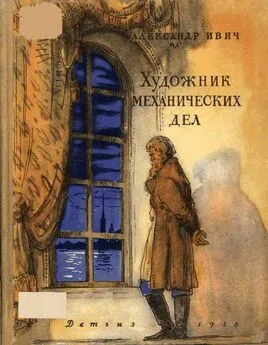
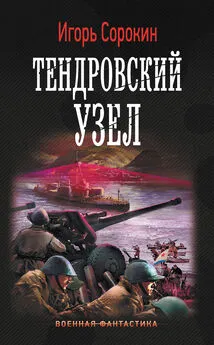
![Игорь Сорокин - Козак. Черкес из Готии [СИ,с издат.обложкой]](/books/1101254/igor-sorokin-kozak-cherkes-iz-gotii-si-s-izdat-o.webp)