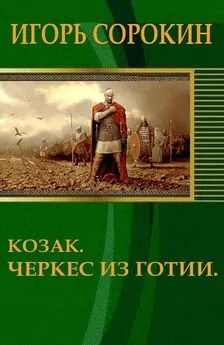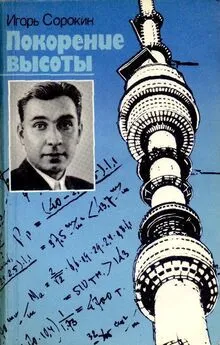Игорь Сорокин - Художник каменных дел
- Название:Художник каменных дел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Сорокин - Художник каменных дел краткое содержание
О сложной судьбе выдающейся личности, о трудных поисках и счастливых находках рассказывает эта книга. Повествование доведено до 1930 г.
Адресована широкому кругу читателей.
Художник каменных дел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Многие москвичи еще помнили кровли кремлевских башен до реставрации. А после нее, по выражению Щусева, «кровли оказались покрытыми шинельным сукном». Архитектор убежденно доказывал, что нельзя приступать к реставрации таких памятников, как Кремль, не изучив, не освоив опыта предшественников. Кровельщик стародавних времен сам обжигал черепицу, сам делал в ней нужные отверстия для крепления. Каждая черепица крепилась на одном кровельном гвозде. Неуловимые глазом неровности в подгонке черепицы и создавали ту живописность кровли, о которой так пеклись русские мастера.
Появились более совершенные материалы, говорил Щусев, открылись широкие возможности, но заботы у строителя остались те же — не посрамить свое искусство. Ничто не способно было, по словам Алексея Викторовича, поколебать его убеждения в том, что если национальное декоративное искусство совсем уйдет из архитектуры, то зодчество перестанет быть искусством. Художественное начало в архитектуре заменить нечем. Даже самая изысканная пластика линий и плоскостей, заявлял архитектор, не способна сама по себе создать художественно значимого произведения в городской застройке. Зодчий не имеет права забывать, что существует художественная среда города, что ее надо любить, беречь и работать, не оскорбляя ее.
Вся Москва знала о стройке «под Каланчой», пристально следила за ее ходом. Проект вокзала перепечатывали газеты, журналы, вокзал был у всех на устах, его ждали с радостью, как ожидают праздника. Официальный Петербург принимал все это холодно.
В вежливом противоборстве двух столиц шла подготовка к 10-му Всемирному конгрессу архитекторов, который должен был состояться в Петербурге. Впервые Россия была выбрана местом проведения международного форума архитекторов. Сначала конгресс намечалось провести осенью 1914 года, в дни стопятидесятой годовщины Российской академии художеств. Но устроители конгресса побоялись напугать холодными осенними дождями знаменитых зодчих, большую часть которых составляли итальянцы и французы, поэтому конгресс был перенесен на май 1915 года. Усилиями Щусева и его сторонников в программу конгресса был включен цикл докладов и сообщений о русском стиле. Намечалась серия выставок «исторических и современных зданий, возведенных в русском стиле».
«Глава русского национального зодчества», как стала называть Щусева печать, горячо увлекся задачей — поднять благодаря конгрессу значение русской архитектуры в глазах образованного мира. Убежденность в том, что русская архитектура заслуживает международного признания и только плохая осведомленность о ее достижениях мешает мировому общественному мнению воздать ей должное, придавала Алексею Викторовичу сил.
В подготовку конгресса Щусев вложил весь свой организаторский пыл. В то время он не пропускал ни одного международного симпозиума архитекторов, чтобы персонально заручиться у каждого мирового светила архитектуры согласием участвовать в Петербургском конгрессе. Все, кто встречался тогда со Щусевым, долго помнили властную силу его обаяния. Не было, казалось, цели, какой он не мог бы достигнуть. Алексей Викторович был уверен в успехе предстоящего форума.
Но тут произошло событие, которому Щусев, как человек искусства, плохо разбирающийся в вопросах международной политики, не придал того значения, которое оно имело: 15 июня 1914 года выстрелами из револьвера были убиты австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд и его супруга герцогиня Гогенберг.
И в самом деле, ничто как будто не предвещало мировой грозы. 19 июня в Берлине торжественно открылась выставка-продажа русских кустарно-художественных изделий. Основную часть экспозиции привезла в Берлин Мария Клавдиевна Тенишева из смоленской деревни Талашкино, где она организовала художественные мастерские. Деревянные игрушки, расписная посуда, резные ларцы, кружева, финифть были полны обаяния. Их доставили в Берлин из Богородска, Гжели, Федоскина, Вологды, Ростова... Бесхитростные предметы русского быта привораживали сердца.
А ровно через месяц, 19 июля 1914 года, германский посол Пурталес вручил в Петербурге российскому министру иностранных дел Сазонову ноту об объявлении войны. В тот же день в Париже был убит вождь французских социалистов Жорес.
Величайшим указом строительство Казанского вокзала в Москве было остановлено. Строительные артели подлежали немедленной мобилизации для строительства фортификационных сооружений и рытья окопов.
В первую минуту Щусев растерялся. Но он не был бы Щусевым, если бы примирился. Он решил объявить свою войну войне, войну за утверждение искусства. Архитектор стал искать пути спасения своего проекта. Он понимал, что шансов почти нет, поэтому ни одного опрометчивого шага допускать нельзя.
Алексей Викторович вспомнил, как год назад, 11 июля 1913 года, накануне его переезда в Москву он был приглашен вместе с Марией Викентьевной на умопомрачительный по роскоши праздник. Трехсотлетие царствования дома Романовых отмечалось так, что вся Европа была ослеплена — казалось, Россия опустошила все свои закрома, чтобы закатить пир на весь мир. Золотым дождем сыпались награды, лились верноподданнические слезы. Министерство двора трудилось денно и нощно, чтобы ублажить монарха и его семью. Это был их праздник, и мало кто догадывался, что он был последним.
1905 год казался почти невероятным. Появилась присказка, понравившаяся при дворе: «Даже нищим на святой Руси живется всласть». Будущее рисовалось райски безмятежным. Лишь горстка государственно мыслящих людей, которых, однако, никто не слушал, с ужасом поглядывала на статистические сводки: государственный долг в три раза превышал годовой бюджет, а это означало, что Россия потеряла право на самостоятельную политику, что даже ее внутренняя жизнь не принадлежит ей. В такие времена реакцией на безысходность всегда была безудержная роскошь.
В день праздника возле дома на Крюковом канале, где жил Щусев, остановилась лакированная коляска с двуглавым орлом на дверцах. Гренадерского вида форейтор восседал на козлах. Через секунду он звонил в колокольчик.
— Господа! У меня еще две ездки, — просительно произнес он. — Поторопиться бы...
Мария Викентьевна на ходу прикалывала кружевную шляпку.
— А не заехать ли тебе попозже, братец? — предложил Алексей Викторович. — Видишь, госпожа не готова.
— Никак невозможно! — ответил форейтор и направился к коляске, чтобы откинуть ступеньку.
У перил убранной синим бархатом лестницы Петродворца с правой стороны выстроился невообразимо длинный хвост гостей, вдоль которого сновали распорядители из бесчисленного штата министерства двора. Блестели расшитые одежды сановников, аксельбанты, эполеты, ордена. Увидев это золотое сияние, Алексей Викторович вдруг вспомнил, что нарушил предписание — позабыл надеть награды. Его Святая Анна II степени и Святой Станислав III степени остались где-то в куче безделушек, которыми играли дети.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
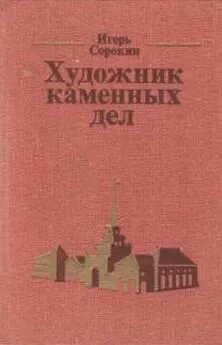
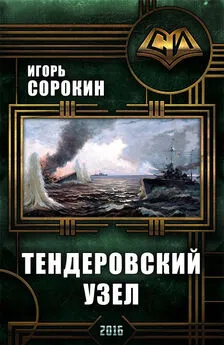
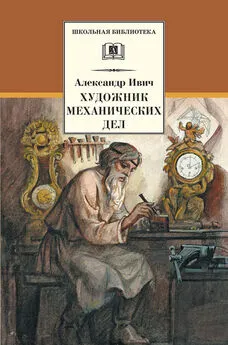
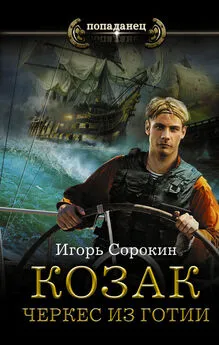
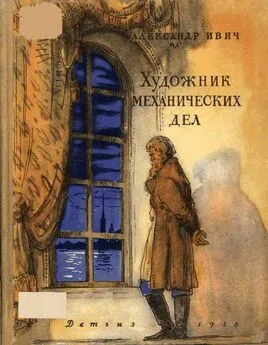
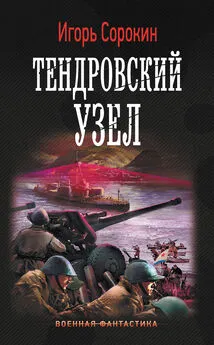
![Игорь Сорокин - Козак. Черкес из Готии [СИ,с издат.обложкой]](/books/1101254/igor-sorokin-kozak-cherkes-iz-gotii-si-s-izdat-o.webp)