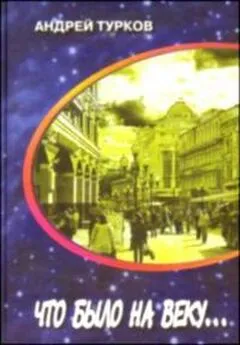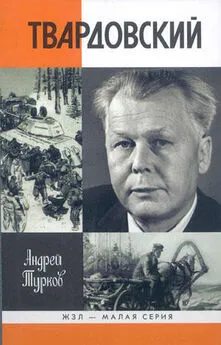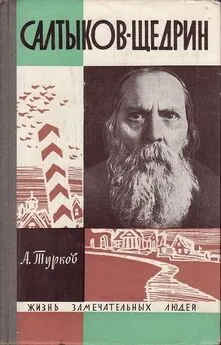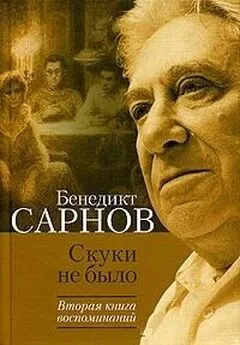Андрей Турков - Что было на веку... Странички воспоминаний
- Название:Что было на веку... Странички воспоминаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Турков - Что было на веку... Странички воспоминаний краткое содержание
Что было на веку... Странички воспоминаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Еще поздней осенью 41-го, в день рождения дяди Мини я подарил ему очень понравившуюся мне книгу Ивана Евдокимова о Левитане, сделав на ней стихотворную надпись, из которой помню только заключительную строку: «Новоселья желаю тебе!» Речь, конечно, шла не о каких-то бытовых пожеланиях: имелась в виду некая общественная перемена, представлявшаяся совершенно туманной и, быть может, связанная с расчетами на длительность союза с демократическими странами и некое воздействие этого на наши внутренние дела.
Но, как бы то ни было, в дальнейшем моя «оппозиция» быстро сошла на нет. Тут сыграло роль и влияние того патриотического порыва, который побуждал тогда и весьма зрелых и многознавших политических деятелей даже в стане эмиграции мысленно становиться под знамена сражавшейся со страшным врагом России, как все чаще именовали страну, которую еще недавно нещадно третировали как презренную «Эсэсэсерию», «Совдепию».
К великому сожалению, с той поры как-то ослабела и увяла моя дружба с М.Н. Краевским, оказавшаяся (или, быть может, показавшаяся?) мне тогда исчерпанной и уже малоинтересной. Не помню уже, как и почему мы перестали встречаться. Лишь незадолго до его смерти, году в 1958-м, мне передали его просьбу навестить его. Жаль, не помню подробностей этого свиданья-прощанья. Прошли годы, пока у меня не появилось острое сознание собственной черной неблагодарности, увы, безнадежно запоздалое.
С тетей Тюней все было куда безболезненнее. Помню, что, узнав уже в армии о кончине Владимира Николаевича, я написал ей, а вскоре по возвращении поехал на их дачу в Ильинском и, прихрамывая, чистил садовые дорожки, совершенно запущенные, а прежде окаймлявшиеся прекрасными белыми флоксами. Покойный вообще с величайшим тщанием возился с цветами, облачась в какую-то столь немыслимо заношенную рубаху, что кто-то из потенциальных пациентов довольно свысока спросил его, дома ли доктор Мамонов. «Нету, нету!» — смиренно отвечал Владимир Николаевич.
Изредка виделись мы с тетей Тюней и позднее, но грустно, что могло это происходить и чаще, и теплее. Переселенная с Садовой в район Аэропорта, она доживала свой век в полном соответствии со своим характером — независимо, замкнуто, непроницаемо. Умирая в больнице от рака легких (страстный была курильщик!), за несколько минут до кончины со своей обычной вежливостью ответила на вопрос медсестры: «Нет, благодарю вас, мне ничего не надо...».
Одна из моих более поздних знакомых, писательница Александра Яковлевна Бруштейн (о ней речь далеко впереди), чьи родители сгинули в вильнюсском гетто, с великой горечью писала в своей прекрасной книге «Дорога уходит в даль», что ей негде поклониться их памяти, сказать слово благодарности. «Я говорю это здесь», — заключала она.
И при всей несопоставимости обстоятельств мне тоже хотелось бы сказать — здесь и сейчас — обо всех упомянутых выше людях то, что не успел или не надоумился сказать прежде. (Счастье еще, что в последние десятилетия жизни Елены Михайловны Владыкиной, тети Лели, мы с женой очень сблизились с ней, уже не покидавшей дома, но сохранившей не только ясную голову, — как и ее сестра Ольга, — но и живой интерес ко всему окружающему и желание дожить до каких-то общественных перемен).
Только со мной умрут вечера в Хлебном и в Ильинском, немудреное веселое музицирование Владимира Николаевича, негромкий голос дяди Мини и молчаливость другого деда, дяди Сани. Последний как-то приснился мне со своей хмуроватой доброй улыбкой и «дежурной» остротой («Простите, я без галстука...»), — и так я плакал во сне от горя и от счастья, что могу его обнять и сказать что-то благодарное...
Пусть земля будет им пухом! Мы росли в нелегкое, очень нелегкое время, но именно во многом благодаря этим людям, когда думаешь о своих первых годах, в памяти звучат строки поэта:
Серебряной звездой летит в ладони детство,
Мерцает и звенит, спеша уверить всех,
Что жить нам — не устать, глядеть — не наглядеться
На этот первый снег, на этот первый снег.
(Николай Рыленков)
ПОСТСКРИПТУМ ...ЛЕТ СПУСТЯ
Попал я как-то в безумно привилегированную поликлинику в одном из арбатских переулков. Уж и не вспомню, вместо каких старых домов вознеслось это громадное помпезное здание, рядом с которым довольно внушительный в прежнее время особняк, служивший гнездом аксаковского семейства, нынче выглядит карликом, а уж про крохотный одноэтажный с мезонином домишко музея Герцена нечего и говорить!
Фамилия доктора, исписывавшей страничку за страничкой в моем скорбном листе, как некогда именовалась история болезни, была не столь уж редкой, но меня, пришедшего сюда Староконюшенным, каким годами хаживал в школу, подмывало задать один вопрос.
И я не удержался:
— Скажите, пожалуйста, среди ваших родственников не было такого — Шуры Иноземцева?
Оказывается, был некий «дядя Шура», по возрасту, пожалуй, ровня мне, но вот жил ли он в Староконюшенном, довольно молодая племянница не знает, на ее памяти он обитал далеко отсюда — в Конькове. Там и умер. Воевал, был в плену.
Я-то, как и другие выходцы из предвоенного 9-А, временами встречавшиеся до самых последних лет, думал, что Шура разделил участь Левы Барама, летчика Володи Богдановича, Володи Лобанова, Феди Пальдяева, то ли убитых, то ли пропавших без вести. Впрочем, по последней «категории» проходили и пленные.
Не знаю, дополнит ли мой доктор ту краткую «справку», какую я от нее уже получил; узнаю ли подробности одной из миллионов горьких судеб. Тут может таиться такая давняя семейная боль, начиная с самого Шуры, конечно, не избежавшего ни печально памятных проверок, возможно, даже лагеря и «срока», который «полагался» этим несчастным людям, поголовно объявленным «изменниками родины», и как минимум — тягостного клейма во все вынюхивающих анкетах, будь они прокляты.
Бог знает, как и когда он вернулся в Москву, как и чем жил, слышал ли, знал о происходивших время от времени встречах былых питомцев нашей 59-й школы, многими из которых она гордилась, как пышно провозглашалось на этих сборищах.
Шура был младшим братом довольно известного ученого, если не ошибаюсь — блиставшего еще на таких довоенных вечерах. Наверное, дома его ставили в пример другому, довольно непутевому отпрыску, попавшему в наш класс «второгодником».
Наследующие годы его «оставила» уже война...
Не скажу, что буквально все эти мысли так сразу и «пронеслись» в моей голове, как пишут в романах. Однако не без влияния описанного разговора я, выйдя из поликлиники, начал бродить из одного окрестного переулка в другой, узнавая — или, наоборот, не узнавая — знакомые места. Обнаружил, к примеру, что Мертвый переулок, в конце 30-х годов носивший имя его знаменитого обитателя — нет, не великого физика Лебедева, а Николая Островского, культовой, как теперь выражаются, фигуры того времени — теперь именуется Пречистенским.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: