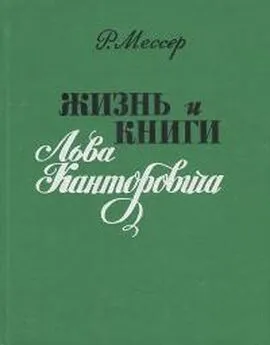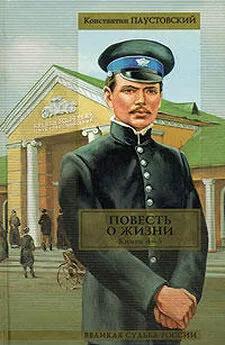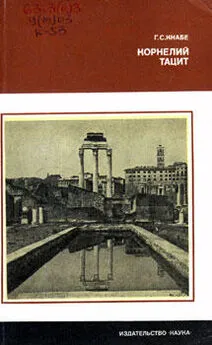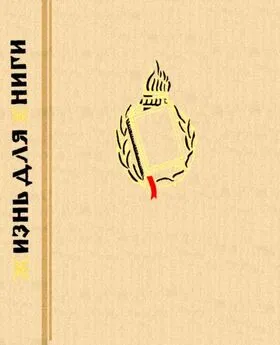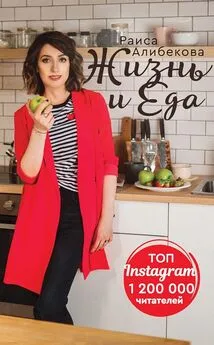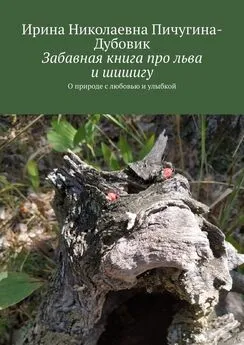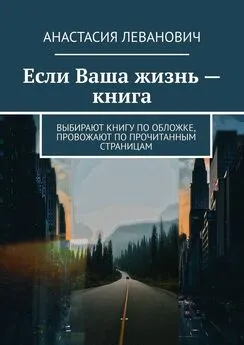Раиса Мессер - Жизнь и книги Льва Канторовича
- Название:Жизнь и книги Льва Канторовича
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1983
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Раиса Мессер - Жизнь и книги Льва Канторовича краткое содержание
Рисунки, помещенные в книге, принадлежат самому Л. Канторовичу, который был и талантливым художником.
Все фотографии, публикуемые впервые, — из архива Льва Владимировича Канторовича, часть из них — работы Анастасии Всеволодовны Егорьевой, вдовы писателя.
В работе над книгой принял участие литературный критик Александр Рубашкин.
Жизнь и книги Льва Канторовича - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Большой, горделивый Ургенч
Несет валуны по теченью,
Одетые пеной и паром,
Грозящие тяжестью
Мшистым ущельям,
Могучим его берегам...
Из обоих произведений — напечатанного и неопубликованного — видно, насколько глубокий пласт культуры киргизского народа составляет его национальный эпос. Стихи из «Манаса» повторяют Амамбет и Кутан, о них говорят киргизские комсомольцы на своем собрании. Писатель подчеркивал важность сохранения в современной жизни лучшего, что было в народе.
Вторая глава — «Мой спутник» — представляет собой нечто вроде конспекта военной биографии Кутана Торгоева. Содержание этих воспоминаний прямо соотносится с боевыми сценами из повести. Эта глава позволяет допустить, что рассказ писался раньше повести.
Подлинным гимном коню, которому, по мнению Кутана, нужно поставить памятник, «как Павлов собаке», стала третья глава рассказа, в котором герой обучает спутника искусству верховой езды. В этой главе («Коню от благодарного человека»), как и в повести, возникают поэтические картины киргизских скачек, начиная с первой победы героя в состязании с байским сыном.
Те же, что и в повести, мотивы, эпизоды появляются и в других главах. Так, рисуя кочевой быт рядом с новой техникой, с небывалыми раньше понятиями, вводит автор в свой рассказ тему Москвы (глава названа — «О гостеприимстве»). По существующему обычаю, путник должен у каждой юрты выпить хотя бы пиалу кумыса. Так завязываются разговоры. Кутан расспрашивает гостя о Москве, и один из участников беседы удивляется: «Как так в Москве нет гор?» Здесь почти целиком повторена сцена из «Кутана Торгоева». «Яша, — шепотом позвал он, — ты бывал в Москве? — Закс повернулся к нему.— Нет, Кутан, не бывал. А что? — Не бывал, — грустно повторил Кутан, — но ты все-таки знаешь, какая Москва? Да? — Конечно, знаю, — ответил Закс. — Я и читал много про Москву, и в кино видел, и фотографии... — Тебе хорошо,— перебил Кутан, — ты читать можешь. А мне как? Как узнать про Москву? — Что же тебе знать нужно, чудак? — улыбнулся Закс. — Что знать нужно? — горячо заговорил Кутан. — Все знать нужно! Понимаешь? Расскажи мне. Горы есть в Москве? Высокие горы? Снег лежит в горах? — Нет гор в Москве. Вовсе нет. И снег на горах не лежит...»
Из дней сегодняшних, когда грамотность стала всеобщей, радио и телевидение доходят до самых далеких уголков страны, все это кажется удаленным не на десятилетия— на века. В этом смысле книги наших писателей — Н. Тихонова, П. Павленко, П. Лукницкого, Л. Канторовича — о жизни советской Средней Азии в 20—30-е годы воспринимаются как документы недавней истории. Кутан удивлялся, что в Москве нет гор. Писатель Тихонов, увидев скульптуру «Туркменка с книгой» перед зданием Туркменкульта, утверждал в 30-м году, что туркменка занимается «невиданным делом».
Судя по приметам времени, рассказ «Дорога на Тянь-Шань» все-таки передает события 30-х годов, в то время как повесть посвящена предшествующему десятилетию. В рассказе бывшие пастухи и кочевники правят тракторами, колхозные бригады пасут огромные стада. Достаток пришел в далекие аулы. И снова возникает тема Москвы. Старый киргиз просит: «Скажи в Москве: ״не хватает машин“».
Пятая глава рассказа — «Битва в горах» — это военные воспоминания Торгоева, прямая перекличка с повестью. Здесь не только подробности боевой жизни, батальные сцены, но и фольклорные национальные мотивы. Рассказывая о том, как бежали басмачи от красноармейских сабель, боясь остаться в загробной жизни «без головы», Кутан воспроизводит мотив старой легенды о жалкой судьбе обезглавленного: у него нет права попасть в рай.
В повести главы (их тоже восемь!) и многочисленные подглавки не имели названий, но один из небольших разделов можно было бы назвать так же, как шестую главу рассказа: «Тропа Кутана Торгоева». И здесь и там строительство дороги и моста в трудных условиях гор. Зато главы «Охота» в повести нет. Правда, Андрей Андреевич в письмах зовет друга приехать поохотиться, и однажды он даже собрался вместе с Амамбетом пойти в горы, но вместо охоты получился у них очередной разговор о делах. Очевидно, седьмая глава рассказа («Охота») — неосуществленные страницы повести, в ней все красочно, романтично: и диковинные птицы, и горные звери, каких нигде больше не встретишь. Заканчивался рассказ пылким монологом обычно сдержанного и молчаливого Кутана («До свиданья, горы!»). В нем признание любви к родной Киргизии, в нем и авторское отношение к этому краю: «Видишь, какой наш Тянь-Шань, какая наша страна!»
Рассказ знакомит с экономикой Киргизии, благотворными социальными переменами в жизни народа, с преодолением специфических трудностей в развитии горной страны. Самое привлекательное в этом произведении — духовный облик героя, его упорство в покорении природы, жажда знаний, рост самосознания. Писатель увидел, как национальная самобытность сочетается с органически развившимся чувством советского патриотизма. Именно из потребности изобразить пограничника в разносторонних жизненных связях возникла у автора необходимость вновь провести героя по его родным горам, показать его в нелегком труде, в повседневных делах и при этом напомнить о воинской биографии. Если в повести «Кутан Торгоев» герой сначала мучительно искал свой путь к правде, а затем овладевал профессией пограничника, то в «Дороге на Тянь-Шань» он прежде всего предстает как хранитель культурных ценностей и традиций своего народа. Рассказ этот по-новому освещает круг идейно-художественных интересов Канторовича.
С первой же поездки в Среднюю Азию писателя привлекли два характера, два образа, один из которых был немыслим без другого. С одной стороны, это пограничник, уроженец здешних мест, киргиз, прошедший сложный путь духовных исканий, с другой — боевой командир старшего поколения, участник гражданской воины, защитник многих рубежей страны. Он может быть безымянным начальником, как в рассказе «Пост номер девять», и его могут звать Андреем Андреевичем, как зовут в повести «Кутан Торгоев». Так же зовут его и в «Рассказе пограничного полковника», написанном одновременно с повестью. В рассказе Андрей Андреевич повествует об одном боевом эпизоде, связанном с гибелью старого проводника Джамшида, но, пожалуй, главное здесь — биография командира, одного из любимых героев писателя. Уже по ранним произведениям Канторовича было видно, что герой-командир еще не раз привлечет его внимание.
Лев Владимирович думал даже над циклом рассказов пограничного полковника, но он не состоялся, видимо, и потому, что после «Кутана Торгоева» появилась уже повесть о боевом полковнике...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: