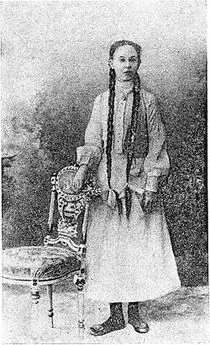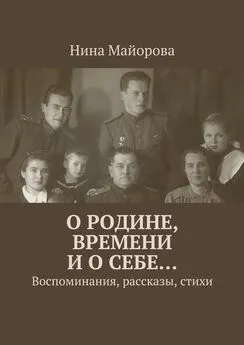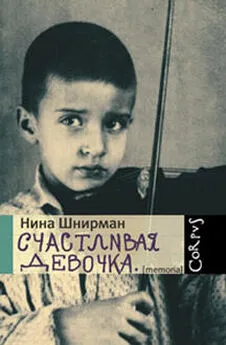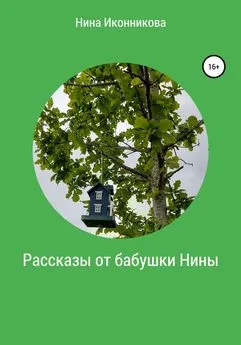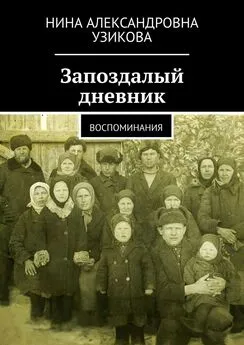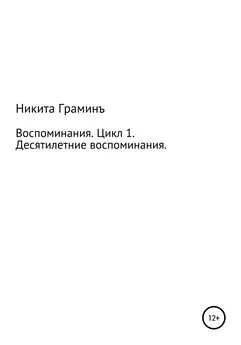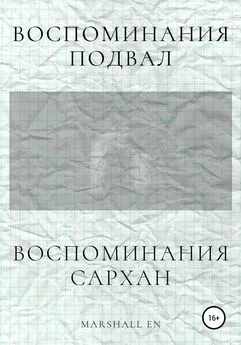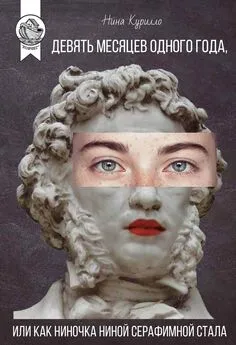Нина Штауде - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:На рубежах познания вселенной
- Год:1990
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Штауде - Воспоминания краткое содержание
Злодейское убийство С. М. Кирова в декабре 1934 г. послужило сигналом к новой волне арестов среди ленинградской интеллигенции. Разделила трагическую участь многих и Нина Михайловна. В начале 1935 г. она была арестована, так как по религиозным убеждениям отказалась подписать коллективное письмо с требованием возмездия убийце С. М. Кирова. Н. М. была сослана и провела в лагерях и административной ссылке около десяти лет.
В 1944 г. по приглашению академика В. Г. Фесенкова приехав в Алма-Ату, она стала работать в Институте астрономии и физики Казахского филиала АН СССР. Вскоре защитила кандидатскую диссертацию по материалам исследований сумерек, выполненных еще в начале 30-х годов (монография Н. М. была опубликована по представлению академика С. И. Вавилова в «Трудах комиссии по изучению стратосферы» в 1936 г., когда Н. М. была уже в ссылке).
В Алма-Ате Н. М. опубликовала 6 научных статей и подготовила к защите докторскую диссертацию. Защита должна была состояться весной 1949 г. в Институте физики атмосферы АН СССР, но она так и не состоялась. Н. М. пишет в автобиографии, что ее здоровье ухудшилось и от защиты пришлось отказаться. Следует вспомнить происходившую в это время послевоенную «чистку» кадров АН КазССР, в ходе которой был уволен ряд сотрудников, в том числе и Н. М. Возможно, это и послужило причиной отмены защиты, хотя отзывы оппонентов В. Г. Фесенкова, И. А. Хвостикова и В. П. Ветчинкина были прекрасными.
В 1957 г. Н. М. переехала в г. Елец к родственникам, где жила до конца своей жизни.
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Весною того же 1920 года образовалось еще одно учреждение астрономического профиля — это Вычислительный институт, потом переименованный в Астрономический. До того времени все русские астрономы пользовались заграничными ежегодниками при наблюдениях светил: английским «Nautical Almanac» или германским «Berliner Jahrbuch». Теперь возникла мысль и даже необходимость выпускать свой собственный русский «Астрономический ежегодник». Во главе института встал талантливый молодой астроном Борис Васильевич Нумеров. Программа работ и штаты нового института были обширные. Почти все знакомые молодые астрономы были привлечены туда. Пригласили и меня. На лето центр тяжести работ был перенесен за город, институту предоставили помещение в одном из бывших дворцовых зданий нового Петергофа, у самого моря. Сотрудники переехали туда с детьми, мы прожили там лето с мамой. Я продолжала готовиться к экзамену по математике. Осенью он состоялся, но увы! — я его не выдержала… Ведь и питание было хорошее, и тепло, и спокойно. И было у меня уже несколько печатных работ. А почему не выдержала — сама не понимаю! Ведь на курсах даже у требовательной Веры Шифф всегда сдавала сразу, хотя иных она «гоняла» по 8–10 раз. Может быть, потому не сдала, что разбрасывалась, так как работала еще в двух институтах: у Лесгафта и в Вычислительном. Тогда совместительство не преследовалось.
Профессорское общежитие (1920–1922)
Провал на экзамене был большим конфузом не только для меня, но и для моих доброжелателей — мне уже были предназначены две комнаты в только что организуемом профессорском общежитии на Тучковой набережной, 12. Там же поместились такие корифеи науки, как проф. Гревс с семьей и проф. Кареев с женой. А предполагаемый «магистр» оплошал.
Переехать нам все-таки пришлось, хоть и совестно было. Квартира на 12 линии Васильевского острова была для нас двоих велика. Домовый комитет даже вселил нам двух матросов. Оставлять маму одну на целый день было неудобно, а на Тучковой набережной она была в кухне в обществе двух жен почтенных профессоров. После переезда я сразу воспользовалась своей «свободой» и проехалась в Москву на какой-то съезд. В Москве выяснилось, что специалисты и любители готовятся к экспедиции для наблюдения солнечного затмения 8.IV.1921 г., которое можно наблюдать в Мурманске и близ него.
Русское общество любителей мироведения в Петрограде решило послать и от себя наблюдателей туда же. Включили и меня в состав экспедиции. Всю зиму шла подготовка к затмению. Тогда было трудно и построить приборы, и достать продовольствие и теплую одежду, и выхлопотать разрешение на отдельный вагон. Все это с успехом выполнил начальник нашей экспедиции М. Я. Мошонкин. Наблюдения предполагалось производить на биологической станции в Александровске, на берегу Баренцева моря. Там нас ожидали. Однако перед самым отъездом оказались неприятности. Не помню уже почему, наш отъезд задержался на один день. В это время москвичи уже выехали в прекрасном классном вагоне и их прицепили к поезду, на который рассчитывали мы. Нам же досталась только теплушка, и то на другой день. Мне стало жутко, когда я приехала на вокзал и убедилась, что надо в марте месяце ехать за Полярный круг без всяких удобств, но отступать было невозможно. Итак, мы двинулись — 4 мужчин и 2 женщины. Вместо лежанок — ящики с приборами. Отопление — добела накаленная «буржуйка», вентиляция — настежь раскрытые двери. Сперва ехали благополучно — вблизи Петрограда путь был исправлен. Но чем дальше мы продвигались на север, тем больше попадалось нам искалеченных вагонов, валяющихся около пути. Видно было, что крушение поездов здесь не редкость, и обломки вагонов даже не убираются. Дошла очередь и до нас. Когда я дремала после обеда на своем ящике, произошел сильный толчок, вагон закачался, пролился суп из оленины, стоявший на печке. Оказалось, несколько вагонов сошло с рельс, и наше продвижение вперед стало невозможным, выяснилось, что поехала дрезина сообщить о катастрофе на ближайшую станцию. Через некоторое время пригнали навстречу другой поезд, в который пришлось переселяться со всем нашим астрономическим багажом. Из-за этого приключения мы потеряли несколько часов времени. Подъезжали к Мурманску с опозданием на 1,5 суток против намеченного. Вдобавок пароход, курсировавший между Мурманском и Александровском, ушел только что, и следующий рейс его будет только после затмения.
Солнечное затмение (8.IV.1921)
Не оставалось ничего другого, как остаться для наблюдений в самом Мурманске. Нашу «квартиру» поставили на запасный путь вблизи берега Ледовитого океана, и мы стали срочно проверять приборы в остающееся еще время. Условия жизни были почти такие же, как в пути. Разница была лишь в том, что два раза в сутки к нам приближался «рукомойник» — прилив соленой морской воды, когда можно было отмыть с лица и рук угольную пыль и сажу и освободиться от мусора, уносимого отливом. Вблизи нас не было никакого жилища, ни столовой. Мурманск тогда едва застраивался, к тому же только недавно отсюда ушли англичане. Погода нам не благоприятствовала: сильные ветры иногда катили наш вагон по рельсам, и его приходилось закреплять. Солнце показывалось редко, зато мы могли любоваться по ночам прекрасным северным сиянием. Питались олениной и тюлениной, которыми снабжали нашу экспедицию местные представители власти.
Наступил день затмения. Оно должно было быть только частным, т. е. небольшой серпик солнца должен был остаться; но можно было надеяться, что около темных краев Луны при наибольшей фазе удастся увидеть или сфотографировать слабое свечение солнечной короны. В 1914 г. я отчетливо наблюдала такое явление уже после окончания полного затмения. С утра было ясно; но чем ближе к затмению, тем больше стало набегать на солнце облаков, и тем плотнее они становились. Но никто не покидал своего места около прибора: так это принято в подобных случаях, хотя бы надежды на появление прояснения почти не было. Ветер усилился до урагана, и мы едва могли держаться на ногах, а закрепленный вагон покатился. Но терпение было вознаграждено. Небольшое «окошко» в тучах позволило сфотографировать явление в момент наибольшей фазы. На другой день я проявила полученные снимки и отчетливо увидела светлый фон короны темного края Луны. Однако после обработки снимка фиксажем эта интересная деталь пропала. Результаты этой, почти неудавшейся экспедиции, были напечатаны в журнале «Мироведение» [5] Наблюдения эклипсографом во время частного затмения 8.IV.1921 г. // Мироведение. — № 41.
.
Нас очень просили прочитать несколько лекций по астрономии в окрестных поселках. Когда настала моя очередь, был подан специальный небольшой пароход, который довез меня и моего помощника (других пассажиров не было) до рыбачьего села. В клубе, который имел вид большого сарая, собралось все население: рыбаки, жены их с грудными младенцами на руках, ребятишки всех возрастов, и даже… собаки! Не надеялась я на внимательность и дисциплину в таком оригинальном собрании, но ошиблась. Много мне приходилось читать популярных лекций и до того, и после, но такого интереса, таких умных вопросов я никогда и нигде не наблюдала. Даже тишина была полная. Мне представилось, что я нахожусь среди «Ломоносовых» — умных, волевых, наблюдательных, близких к природе и потому интересующихся астрономией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: