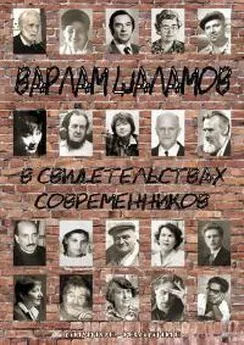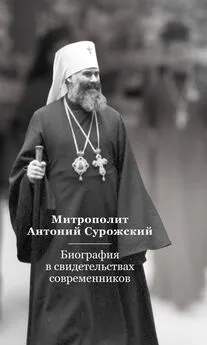Составитель-Дмитрий Нич - Варлам Шаламов в свидетельствах современников
- Название:Варлам Шаламов в свидетельствах современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Составитель-Дмитрий Нич - Варлам Шаламов в свидетельствах современников краткое содержание
Варлам Шаламов в свидетельствах современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне же поневоле приходилось переводить всё в иную, «оптимистическую» плоскость:
«Поэта Варлама Шаламова читатель знает плохо. Прозаика – и того хуже. Между тем благодаря нравственной наполненности, серьёзности содержания, выверенности слова и насыщенности жизненным трудным опытом – благодаря всему этому произведения Шаламова обладают в избытке той «учительной» силой, которая драгоценна всегда, а в наши дни, когда так много говорится о духовном формировании человека, в особенности» и т.д.
2 февраля 1968 года я получил от Шаламова развёрнутое послание, где он выразил ясно и твёрдо своё кредо – кредо гражданина и художника.
«Дорогой Олег Николаевич, – писал он. – Благодарю Вас за рецензию в «Литературной газете». Формула Ваша отличается от концепции Адамовича: «автор готов махнуть рукой на всё былое». Я вижу в моём прошлом и свою силу, и свою судьбу и ничего забывать не собираюсь. Поэт не может махнуть рукой – стихи тогда бы не писались. Все это – не в укор, не в упрёк Адамовичу, чья рецензия умна, значительна, сердечна. И – раскованна. Сборник стихов – не роман, который можно пролистать за ночь. В «Дороге и судьбе» есть секреты, есть строки, которые открываются не сразу.
Непоправимый ущерб в том, что здесь собраны стихи-калеки, стихи-инвалиды (как и в «Огниве» и в «Шелесте листьев») «Аввакум», «Песня», «Атомная поэма» («Хрустели кости у кустов»), «Стихи в честь сосны» – это куски, обломки моих маленьких поэм. В «Песне», например, пропущена целая глава, важнейшая: «Я много лет дробил каменья Не гневным ямбом, а кайлом», в самом конце сняты три строфы. В других поэмах ущерб ещё больше, а «Гомер», «Седьмая поэма» и к порогу сборника не подошли.
Нарушением единого потока сборника было включение стихов, написанных в трудных условиях на Колыме в 1949 и 1950 году и выбранных из множества стихов тех лет: «Чучело», «Притча о вписанном круге» и некоторые ещё. Но лучше было включить при всем их многословии и шероховатости, как след судьбы, как след настроений тех лет, как доказательство себе самому, как трудно было на Колыме складывать буквы в слова. В своё время Пастернак был против «Чучела» и понял всё только при личной встрече.
В сборнике есть два «прозаических» стихотворения – «Прямой наводкой» и «Гарибальди». Эти стихи заменили снятые стихи о Цветаевой.
Я написал более тысячи стихотворений. А сколько напечатал? 200? 300? – отнюдь не лучших. Я пишу всю жизнь. Дважды уничтожали мои архивы. Утрачено несколько сот стихотворений, тексты давно мной забыты. Некоторые присылают мне только теперь. Утрачено и несколько десятков рассказов, а напечатано в тридцатые годы лишь четыре. Сохранилась лишь часть (большая) колымских стихов – в своё время вывезенных на самолёте и вручённых мне в 1953 году. Эти «Колымские тетради» (стихи 1937 – 1956 годов), числом шесть, составляют более шестисот стихотворений. Часть из них вошла в сборники, в публикации «Юности».
Таким образом, в «Дороге и судьбе» – лучшие стихи – это стихи двадцати- и пятнадцатилетней давности. Я приехал в 1956 году после реабилитации с мешком стихов и прозы за спиной. Около ста стихотворений было взято журналами – каждый брал помаленьку. И я рассчитывал, что до славы остался месяц. Но начался венгерский мятеж, и сразу стало /ясно/, что ничего моего опубликовано не будет. Так продолжается и по сей день. Мне удаётся печатать по несколько стихотворений в год – самых для меня не интересных, участвовать в «Днях поэзии», выпустить за 10 лет три сборника по два-три листа – с усечением и купюрами.
Я смею надеяться, что «Колымские тетради» – это страница русской поэзии, которую никто другой не напишет, кроме меня.
Теперь о поэзии мысли. Мне представляется крайне важным эмоциональная сторона дела, чувство, оттенок чувства, которые исследуются стихом и только стихом в пограничной области между чувством и мыслью, составляющим суть, на мой взгляд, творческого процесса. Ведь творческий процесс больше отбрасывание, чем поиск. Мне кажется также крайне важной звуковая организация стиха, ритмическая его конструкция. И о том, и о другом я не забываю никогда. Только это не аллитерации типа «мир – мор», которые и Цветаеву-то портили, уводили её от главного – преодоления препятствий, воздвигнутых поэтессой перед самой собой, иногда выглядело героически, истерически-героически. Эпигонов цветаевских эти «поиски» задушили. У эпигонов Цветаевой это было бреньчаньем (в отличие от бряцания Цветаевой), бреньчаньем оружием весьма примитивным, простейшим оружием из огромнейшего поэтического арсенала.
Для меня эта сторона дела становится предметом постоянной заботы. Чтоб не искать примеров далеко – вот стихотворение «Лицо», которое нравится Вам и которое вы считаете «программным» для меня. Ведь в этом стихотворении всё насквозь прорифмовано, ассоциировано. Без внимания к этой стороне дела у меня нет стихов. Мне кажется даже, что любой поэт в любом стихотворении всегда ставит малую или большую, но чисто «техническую» задачу – и разрешает её. Эти задачи могут быть разнообразные: новая тема, рифма, мысль, размер, ритм... Всегда хочется вставить в строку какое-нибудь многосложное слово, прозаическое до демонстративности.
Но я горжусь и тем, что звуковая организация стиха, звуковая опора строфы в моих стихах существует как бы позади мысли, внутри мысли. При проверке строка оказывается более совершенной, чем казалось на первый взгляд, и это должно дать читателю дополнительную радость, ту самую радость точного слова, которая важней всего для человека, работающего над стихом, над словом. Стихи – это всеобщий язык – потому нет дела, факта, события, идеи, которую нельзя было бы применить в стихах. Стихами можно сказать (а главное – найти!) многое, чего не найдешь прозой. Поэт, который заранее знает, что он хочет выразить в своем стихотворении, – это не поэт, а баснописец. На свете есть тысяча правд, но в искусстве есть только одна правда – правда таланта. Вот и всё. Спасибо Вам большое.
Остаётся ещё сказать, что у меня нет равнодушной пушкинской природы (она была ещё у Пастернака) и что пейзажная лирика – лучший род поэзии гражданской. Называя моих учителей, Вы, ей-богу, ошибаетесь, так же, как и Адамович. Вся русская лирика начала века – вместе – Анненский и Блок, Мандельштам и Цветаева, Пастернак, а также десяток имён ниже этих, которые искали, нашли и могли бы составить славу поэзии любой страны. Вершина же русской поэзии – Тютчев. Поэт для поэтов – но жизнь. И пока нет своего языка – нет поэта. Вопрос новизны, вопрос творческой интонации – главнейший в поэзии, как и в искусстве вообще. Поэтическая интонация – это не стиль, но и не то объяснение, которое даётся в литературоведческих словарях, авторы которых привыкли иметь дело с прозой. Поэтическая интонация гораздо шире, глубже, особенней, тоньше, сильнее наконец – от любимых рифм до любимых мыслей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: