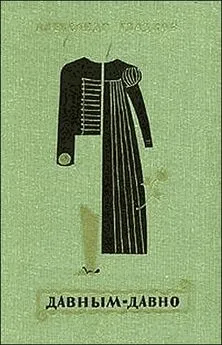Aлександр Гладков - Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки]
- Название:Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Aлександр Гладков - Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки] краткое содержание
Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но в этой же главе А. Моруа делает и одно неверное замечание. Моруа считает в биографии закономерным только прямолинейно-хронологическое развитие жизни героя, только через «постепенно раскрывающиеся в душе героя события и одновременно с ними». То есть он советует автору притворяться и делать вид, что он не знает того, что на самом деле ему отлично известно. Моруа признает, что в этой уловке есть «искусственность», ведь большей частью читатель, начиная читать биографию, знает финал жизни героя — остров Святой Елены у Наполеона, дуэль с Дантесом у Пушкина. Разумеется, могут существовать отличные биографии, стилизованные под неторопливый ритм классического «романа воспитания», где автор не забегает вперед, не отвлекается в стороны и ведет героя от рождения до смерти, год за годом. Но стоит ли накладывать вето и на иные композиционные приемы? В глубокой и содержательной работе нашего покойного лингвиста, философа и историка литературы Г. О. Винокура «Биография и культура», изданной в Москве в 1927 году ничтожным тиражом и почти забытой (о ней стоило бы поговорить — это богатейшая россыпь мыслей, но в другой раз!), я нашел замечательную цитату из «Поэзии и правды» Гёте: «Хотя человеческие задатки и следуют в общем известному направлению, но даже величайшему и опытнейшему знатоку трудно заранее предсказать это направление с достоверностью, но впоследствии иногда можно заметить то, что указывало на будущее» (Винокур Г. О. Биография и культура, с. 37). Как и все книги, биографии обычно читаются с начала, но, думается, что многие из них пишутся с конца. Лев Толстой свою великую историческую эпопею задумывал тоже с конца: начал с декабристов и от следствия перешел к причине — к наполеоновским войнам. Нет ли в обязательном соблюдении хронологической постепенности некоего стилистического жеманства? Думается, что в биографиях возможны и допустимы самые различные композиционные приемы, любые манеры изложения материала. Современная проза испытала и отточила в этом отношении много интересных приемов. А. Моруа приводит пример с историей Шехерезады, которая спаслась от своего страшного мужа только потому, что умело останавливалась под утро, заставляя его волноваться: что же будет дальше? А. Моруа считает, что этот прием: «Что же будет дальше?» — обязателен и для развертывания биографии. Но в сказках Шехерезады слушатели действительно не знали, что же дальше, и пружина приема действовала энергично. В биографиях же читатель почти всегда знает, что дальше. Не вернее ли искать источник напряжения и занимательности биографического рассказа не в принципе «что дальше?», а в том: «вот как это было!»? Кому не известна развязка «Гамлета», однако все с новым удовольствием следят за тем, как все это происходило. Томас Манн вспоминает, что когда его мюнхенская машинистка впервые перепечатывала рукопись романа «Былое Иакова», то, вручая ему готовый машинописный экземпляр, она сказала с трогательной наивностью: «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все это было на самом деле!..» Томас Манн справедливо находит это самым лестным отзывом о романе. Не может быть лучшей похвалы и для биографа.
Знаменитый английский историк и биограф Р. Маколей в большом эссе «Об истории» пишет: «Совершенный историк — это тот, кто представляет нам модель характера и духа определенной эпохи. Он рассказывает только о тех фактах, которые достаточно засвидетельствованы. Но посредством умного отбора и искусной группировки их он сообщает истине всю привлекательность поэтического вымысла». (Лорд Р. Маколей. Полн. собр. соч., т. I. Спб., 1860, с. XXV?). И хотя Р. Маколей принадлежит к «знаменитым викторианцам», о которых А. Моруа говорит несколько иронически, свысока, право, эта «программа» сама по себе не кажется ни устаревшей, ни старомодной. Значит ли это, что Моруа не прав, что биографический жанр, по существу, не меняется и что его методы и приемы остаются прежними?
Мне, думается, что Моруа прав, жанр меняется, и к превосходным и острым наблюдениям самого популярного автора-биографа наших дней, доказывающим это компетентно и убедительно, хочется добавить немногое. Когда какой-либо литературный жанр по разным причинам становится особенно распространенным, он закономерно и неизбежно вбирает в себя стилевые элементы других жанров. Роман становится драматургичным (Достоевский) или эпичным (Толстой). Чеховская драма делается, наоборот, повествовательной, в нее вторгается проза. «Ведущий жанр» эпохи тяготеет к универсальной широте композиционных и стилистических приемов, он обогащается за счет соседних жанров, поглощает их. Чистота жанра — это всегда явление его упадка. Сейчас биографический жанр переживает пору своего расцвета, как и граничащие с ним документально-художественные жанры: мемуары, исторический репортаж и другие. Не случайно под маркой серии «Жизнь замечательных людей» в последние годы стали выходить и чисто мемуарные книги, как «Современники» К. Чуковского, «Портреты» М. Горького, разнообразный по представленным в нем жанрам сборник о Ю. Н. Тынянове. И все более распространяющийся прием «беллетризации» биографии тоже выражает эту тенденцию, жаль только, что тут наиболее часто нарушается элементарный литературный вкус. Естественно и закономерно появление биографической книги, вобравшей в себя или философское эссе (книга А. Лебедева о Чаадаеве), или публицистическое исследование (книга А. Туркова о Салтыкове-Щедрине). «Чистая биография» — явление несуществующее, это абстракция, литературоведческий призрак.
1968
Мемуары — окна в прошлое
У меня, вероятно, самая крайняя точка зрения: я думаю, что мемуары сейчас самый необходимый род литературы. Я не говорю «жанр», а говорю «род», потому что мемуаристика знает много «жанров». Формообразующее влияние личности автора именно в мемуаристике всего нагляднее и убедительнее. Об этом можно было бы сказать многое, но я хочу говорить о другом.
Да, мемуары рассказывают о прошлом, но что такое прошлое? Иногда жизнь течет быстро, а иногда медленно. Иногда прошлое уходит в глубь истории стремительно и резко, а иногда оно лежит почти неподвижно. В иные моменты мы относимся к нему нейтрально, с более-менее праздным любопытством, а бывает, что это прошлое как бы врывается в нашу жизнь и что-то в ней активно меняет.
Чаще всего бывает так: чем дальше мы отходим от прошлого, тем лучше его понимаем. Хуже всего обычно понимают и знают прошлое его непосредственные наследники — прямые соседи по хронологии. Какие-то черты становятся видимыми только с определенной исторической дистанции. Но бывает и так, что некоторые важные свойства прошедшей эпохи, наоборот, неразличимы с дальнего расстояния. Теряется понимание прошлого, и это приносит свои плоды в настоящем. Потом, под влиянием вновь открывшихся данных, это понимание возвращается и утверждается. Если, например, написать историю изменения отношения к опричнине Ивана Грозного, то сюжет этой книги будет достаточно динамичным. Труднее всего разобраться в эпохе, от которой осталось мало мемуаров, ибо мемуары — это раскрытые окна в прошлое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Aлександр Гладков - Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки]](/books/1065207/aleksandr-gladkov-pozdnie-vechera-vospominaniya-st.webp)