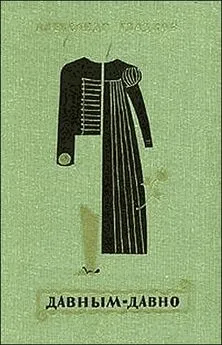Aлександр Гладков - Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки]
- Название:Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Aлександр Гладков - Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки] краткое содержание
Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он разговаривал со мною доброжелательно, но задал вопрос:
— Ну, а вы можете жить и не писать стихи?
Я мог соврать отцу и матери, любимой девушке и лучшему другу, но Маяковскому я соврать не мог. И, порывшись в себе,я ответил:
— Пожалуй, могу, Владимир Владимирович.
— Ну и не пишите! — почему-то весело сказал Маяковский.
— Хорошо, не буду, — уже более уныло сказал я.
Он совсем развеселился.
— Только не врите. Не писать так не писать!
— Не буду, Владимир Владимирович!
Мое послушание его немножко смягчило.
— А если совсем не сможете — найдите, о чем никто не пишет, и тогда уж — валяйте.
— Ладно, — сказал я, — попробую не писать. Ну, а если уж не получится…
— Во-во! — сказал он, перекладывая в другую руку палку — из левой в правую.
Мы уже перешли улицу и стояли у ворот дома, где он жил.
Я не в первый раз заметил за ним эту привычную маленькую хитрость: он не любил здороваться и прощаться за руку — и в нужный момент правая рука его оказывалась занятой то палкой, то перчатками. Когда любишь, то любишь все, и даже странности — и этот жест, и то, что он читал стихи с эстрады в жилете без пиджака (когда мой дядя садился в жилете обедать, это меня почему-то раздражало и даже лишало аппетита, — о несправедливость любви!), и то, что он перед тем, как выпить из стакана воду, долго подозрительно рассматривал его на свет и тер носовым платком (сам я без раздумья глотал пахнущую керосином и бог знает чем мутную москворецкую воду, но в нем эта черта нравилась), и не мне одному запомнившаяся манера перекладывать папиросу из одного угла рта в другой (я дома упражнялся в этом перед зеркалом и преуспел), и еще многое другое.
…Я помню ночной замирающий грохот города, скрежет позднего трамвая на стрелке, заливистый гудок паровоза, где-то за Курским, помню свой внутренний жар. Я еще мог успеть на трамвай, но я не мог его ждать. Я должен был идти, мерять ногами тротуары, шагать, лететь. Сорокаминутный путь до дому казался мне коротким, и я еще удлинил его, свернув на Кузнецкий и вместо прямой дороги через Охотный идя по кругу переулками. Я шел с чувством, что он еще рядом со мной, я повторял вслух читанные им стихи, и мне казалось, что я читаю так же замечательно, как он. Я шел, выкрикивая строфы, и на меня оглядывались прохожие, и мне, как и ему, аккомпанировал ночной гул затихающего города. Я был охвачен восторгом и счастьем, хотя радоваться мне было нечего. Я читал в этот вечер в его присутствии свои стихи, и он не сказал мне ничего утешительного. Но в той серьезности, с которой он слушал меня и моих товарищей — наши стихи и мой сбивчивый лепет потом, когда, выйдя с ним, я закидал его вопросами, — в этой его добросовестной честности, которая не мирится со снисходительностью и сказанными свысока комплиментами, в хмурой, но почти нежной внимательности для меня было нечто большее всяких похвал. Разве важно было то, как ему понравились данные стихи, по сравнению с тем, что он почти час как с равным говорил со мной о поэзии?
Теперь, из исторической дали, вероятно, кажется, что все наше поколение было влюблено в Маяковского, как был влюблен я. Грубо говоря, это верно, но необходимо сделать оговорку. На всю нашу огромную школу в Староконюшенном переулке, носившую гордое наименование «имени Томаса Эдисона», где было по три-четыре параллельных группы, таких, как я, в старших группах в годы 1926—1928 было всего двое — и это на полтораста или больше мальчиков в одной из лучших школ Москвы. Куда ходили остальные? Очень был популярен цирк. В те годы на арене царил изумительный Вильям Труцци, прыгал через несколько лошадей чубатый Виталий Лазаренко-старший. Ходили и на французскую борьбу на территории б. Сельскохозяйственной выставки. Любили бокс, где уже всходила звезда Градополова. И уже все поголовно чуть ли не ежедневно — в кино: это было общим повальным помешательством. Из современной литературы читали переводные романы, рассказы Зощенко и Пантелеймона Романова. Знали Есенина, больше из-за его смерти. Популярны были Жаров, Безыменский и Уткин. Имя Маяковского знали все, хотя бы по постоянным упоминаниям в прессе, но стихи очень мало. Для большинства он был фигурой спорной, фельетонной и даже анекдотической. И все же в многочисленных спорах победу одерживали всегда его сторонники по простому закону жизни, что любовь сильнее равнодушия. И из года в год их становилось больше. Как их в конце концов стало много — показали его похороны.
Есть вещи, которые навсегда исчезают из истории, — их никто не записывает, потому что современники думают, что это всем известно. Все знают, что Маяковский великолепно читал свои стихи, но почему-то никто не рассказывает, как он читал. Это трудно забыть и кажется общеизвестным, но помнящих это становится все меньше, и близок день, когда не останется вовсе.
Что было главным в чтении Маяковского, кроме силы и красоты голоса и особенного, неповторимого тембра, к которому одинаково не подходят популярные эпитеты «бархатный» или «стальной»? Для «бархатного» он был слишком мужественным, для «стального» — теплым. Он чаровал своей уверенной силой, не знающей усилий и пределов. К нему невозможно было привыкнуть: он удивлял каждый раз заново при первых же звуках, сколько бы раз ни слышал его раньше. Главным была легкость и естественность интонационных переходов и весь тот невероятный по огромности диапазон оттенков от интонации разговорной, бытовой, комической до патетики несравнимой силы. Я отчетливо помню, как он читал, например, «Разговор с фининспектором о поэзии», — это было одно из самых богатых речевыми красками его исполнений. Интонационные слои сначала менялись большими кусками — от бытового и комедийного в своей подчеркнутой вежливости начала до торжественно монологического, от гнева до горечи, от шутки до лирического откровения, потом смена их шла чаще и острее — несколько интонационных красок в пределах одной строфы. Переходы брались без разбега, с той полной естественностью, которая повторяла движение мысли, ибо мыслью, как питающей энергией, жило и пульсировало это удивительное чтение. Не хотелось называть это искусство чтением, как не хочется называть пением искусство Шаляпина. Поэты чаще всего читают ритмически остро, но однообразно, иногда почти монотонно (хотя в этом однообразии есть своя выразительность: на ее фоне любой едва заметный интонационный ход кажется событием, как в «Болеро» Равеля). Крайним выражением этой манеры было, видимо, чтение Блока. Я слышал в конце 20-х годов запись на восковом валике чтения им стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», — кажется, потом эта уникальная запись погибла, — это был крайний полюс тому, что можно назвать манерой Маяковского. Этой манере подражали, и всегда неудачно: дело было не в «приемах», а в индивидуальности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Aлександр Гладков - Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки]](/books/1065207/aleksandr-gladkov-pozdnie-vechera-vospominaniya-st.webp)