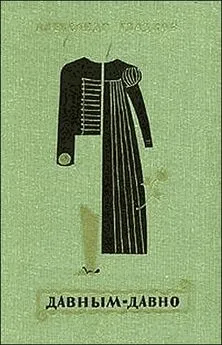Aлександр Гладков - Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки]
- Название:Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Aлександр Гладков - Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки] краткое содержание
Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
М. Ф. Гнесин в своих воспоминаниях о Н. А. Римском-Корсакове пишет: «…он обладал какой-то страстью мигом совлекать с себя поэтические одежды, оставаясь перед другими и перед самим собой простейшим из смертных, как бы демонстрирующим отсутствие поэтической „ауры“ вокруг себя и с особой охотой проповедующим роль ремесла в искусстве, поэтизируя прозу ремесла».
Это определение удивительно подходит к Маяковскому и к Мейерхольду. Вспомним «Как делать стихи» Маяковского. Так же, «проповедуя роль ремесла в искусстве, поэтизируя прозу ремесла» и «совлекая поэтические одежды», всегда говорил об искусстве театра Мейерхольд. И свой будущий «учебник режиссуры», эту самую «очень тоненькую книжечку», «почти брошюрку», где должны быть собраны только немногие, но математически точные и новые законы «сценометрии» (термин Мейерхольда) и простейшие примеры, он видел похожим на «Как делать стихи» Маяковского. И в своей работе В. Э. постоянно ссылался на эту книжку.
Мы были преданы Маяковскому и Мейерхольду, но вовсе не слепо преданы. Поколения, сформировавшиеся в 20-х годах, были «зрячими» поколениями. Нам не предписывалось восхищаться в искусстве тем или другим: мы сами делали свой выбор и мы смотрели на наших любимцев восторженными, но ясными и зоркими глазами. Мы с любопытством читали тощие книжки «Нового Лефа» с яркими фотомонтажами на обложках потому, что нам нравился их боевой, задорный тон, но мы не принимали безоговорочно все, что там писалось. Тогда в советской литературе появилось новое имя — Юрий Олеша. Нам очень понравилась «Зависть», и мы совершенно не были согласны с издевательской рецензией, напечатанной в лефовском журнале. Понравился нам и «Разгром» Фадеева, над которым зло острил в «Новом Лефе» Шкловский. Мы со многим не соглашались, но нам была по душе активная позиция журнала. Споря друг с другом, а иногда и с собой, мы шлифовали свои вкусы. И Маяковский и Мейерхольд нам были вдвойне дороже из-за того, что мы сами их выбрали, оттого, что на них нападали и нам из-за них ежечасно приходилось спорить, и еще из-за того, что мы чувствовали, что не только они нам нужны, но и мы нужны им.
Когда разнеслась весть о смерти Маяковского, мы не сговариваясь явились в тогдашний клуб ФОСПа, где и провели несколько дней, почти не уходя, пока его тело лежало там, в зале, которого сейчас уже нет. (Вечером того дня трагическое известие домчалось до Берлина, где тогда гастролировал ГосТИМ, и перед началом спектакля берлинцы по предложению Мейерхольда почтили память первого советского поэта вставанием. Я как-то потом спросил В. Э.: не было ли протестов при его предложении — ведь все-таки театр был наполнен в основном буржуазной публикой. «Поднялись как миленькие», — ответил В. Э.) Мы бессчетное число раз стояли в почетном карауле у гроба и несли какое-то импровизированное дежурство…
Поколение было памятливым, зрячим и искренним. Лозунг «Левее ЛЕФа» нас не удивил, как и лозунг «Амнистируем Рембрандта», в душе мы уже давно «амнистировали» не только Рембрандта, но и Блока. Нам было тесно в узких догматических рамках лефовской теории, как стало тесно в них наконец и самому Маяковскому. Пафос «Хорошо!» для нас не укладывался в формулу: «…изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала» — как сам поэт печатно определил задачу своей поэмы, но все же нас, материалистов, диалектиков и безбожников, куда больше устраивал этот теоретический язык, чем возвышенные заклинания, настоенные на водке и разговорах о русской душе, с частым употреблением слова «Творчество» с прописной буквы, которыми тогда еще была полна литература. Маяковский и Мейерхольд привили нам нелюбовь к художническому шаманству, и если уж надо было выбирать, то мы скорее выбрали бы трезвые схемы «левых» теорий и веселую деловитую иронию тех, кто предпочитал называть себя мастерами, а не творцами, а свою работу ремеслом, а не Искусством с той же прописной буквы.
Когда я думаю над тем главным, чем являлся для наших поколений Маяковский, то мне хочется сказать, что он был огромным усовершенствованным озонатором: его вкусы и пристрастия стали нашей духовной гигиеной, нашей лирической диетой. Люди, влюбленные в Маяковского, уже не могли хихикать над шовинистическим анекдотом, быть подхалимами, угодниками, карьеристами. Маяковский был нашим душевным здоровьем. Поэтому нас особенно поразила его смерть. С горестным недоумением мы всматривались, неся караул у гроба, в его черты. Может быть, это была первая наша большая рана. Но — знаменательная разница, — в отличие от смерти Есенина, поколение не ответило на эту смерть «полком самоубийц». Жизнестойкость и здоровье его поэзии оказались сильнее примера смерти.
Актерская молодежь, составлявшая огромное большинство труппы ГосТИМа, в основном формировавшейся за счет выпускников школы при театре, была воспитана в духе неподдельной и искренней любви к поэзии Маяковского и восторженного отношения к нему самому. Очень заметно это было на вступительных экзаменах в ГЭКТЕМАС: молодежь знала, что идет в театр, органически связанный с Маяковским, и почти каждый читал его стихи. Говорят, что Мейерхольд позвал однажды на экзамен поэта, но тот вскоре сбежал с комическим ужасом от гигантских порций Маяковского. Строчки, рифмы, остроты Маяковского все время звучали в обыкновенных бытовых разговорах. Получить аванс в бухгалтерии называлось: «вырвем радость у грядущих дней»; про вышедшего из комнаты озорно говорили: «он скрылся, смердя впустую»; приглашение на прогулку звучало: «пойдем по белым кудрям дня» и т. п. Можно сказать, что Маяковский звучал беспрерывно, незаметно и исподволь воспитывая наш юмор и разговорный язык. И сейчас еще «старые мейерхольдовцы», давно уже разбросанные судьбой по разным театрам, случайно встретясь, невольно начинают говорить на языке своей юности. Живая разговорность и своеобразная энергия поэтических интонаций Маяковского определила язык целого поколения (как позднее язык Ильфа и Петрова — предвоенного поколения молодежи), и юные мейерхольдовцы были в этом застрельщиками. Подражали и жесту Маяковского и любовно копировали…
Мейерхольд говорил, что он редко видел Маяковского смеющимся. Действительно, этот обладавший таким бешеным юмором человек как-то всем запомнился хмуро-деловитым или мрачно-молчаливым. Но я очень хорошо помню и смеющегося Маяковского. Это было на той самой читке «Бани», о которой я уже рассказывал. Во время обсуждения пьесы на сцене за большим столом сидели двое: председатель вечера (кажется, О. С. Литовский) и сам Маяковский. Стол стоял не посредине сцены, а слева; а справа стояли выступавшие, поднимавшиеся прямо из зала. В конце обсуждения председатель куда-то ушел, и Маяковский сидел за столом уже один. Он беспрерывно курил, перекатывая во рту папиросу, и иногда что-то записывал. Слушал он все выступления, не глядя на ораторов. Пьеса тогда многим не понравилась, и часть выступлений была резко критической. Два-три раза Маяковский бросил остроумные и не очень злые реплики. Но вот на сцену поднялся худенький, щуплый человечек и с первых слов заявил, что новая пьеса Маяковского «пошлятина». У него был высокий голос, и он пришепетывал. Маяковский сидел полуоборотившись к нему спиной, но на слове «пошлятина» он резко обернулся, развернув плечи. Движение его было так крупно, что оратор невольно испуганно отодвинулся к краю сцены. Зал расхохотался — очень уж был комичен мгновенный безмолвный поворот всем корпусом Маяковского и этот почти прыжок от него оратора: словно испугавшегося, что Маяковский собирается его бить. Он, оправившись, стал выкрикивать что-то еще более дерзкое, но зал продолжал хохотать. Вот тут-то засмеялся и сам Маяковский. Он смеялся со всем залом. И как-то сразу стало понятно, что в огромном большинстве зал полон его друзьями. Мне кажется, стало ясно это и поэту. Это забавное происшествие сняло нервность и остроту, в которой шло обсуждение, и два последних оратора под горячие аплодисменты хвалили пьесу, и Маяковский уже не смотрел так мрачно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Aлександр Гладков - Поздние вечера [воспоминания, статьи, заметки]](/books/1065207/aleksandr-gladkov-pozdnie-vechera-vospominaniya-st.webp)