Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
813Фридрих Максимильян (в России Федор Иванович) фон Клингер (1752–1831) — немецкий писатель, представитель литературного движения «Бури и натиска», обязанного своим названием его драме 1776 г. (о драматическом творчестве Клингера см.: ОГ, ч. 2, гл. 25). В 1780 г. по рекомендации брата Марии Федоровны (в то время великой княгини) Клингер был принят на русскую службу; с 1798 г. он фактически управлял Сухопутным шляхетным корпусом, а в 1801 г. был назначен его директором и оставался на этом посту до 1820 г. В письме от 29 ноября / 11 декабря 1812 г. Клингер благодарит Сталь за сочувствие, высказанное ею в связи с гибелью его сына Александра (юноша умер от раны, полученной в Бородинском сражении), а затем вспоминает «упоительные часы, которые он имел счастье провести в ее обществе»: «если Ваш прекрасный гений внушил мне восхищение, то нрав Ваш, благородный, открытый и естественный, преисполнил меня почтения к Вам» (CS. № 39. Р. 47–48).
814На сходные размышления навело Фортиа де Пиля посещение Воспитательного дома в Москве: «Это прекраснейшее из всех заведений европейских; мы полагаем, однако, что сумм, на него затрачиваемых, достало бы на то, чтобы открыть в каждой губернии или, по крайней мере, в большей их части, заведения подобного рода; империи это принесло бы гораздо больше пользы, однако эти мелкие заведения пользовались бы меньшей известностью, вызывали бы меньшее восхищение и не имели бы блеска и размаха, который так часто поражает в русских заведениях и за которым гоняются русские в ущерб пользе. Молодой народ, желающий в одно мгновение стать вровень с народами старыми, не мог не совершить подобной ошибки, особливо глядя на образцы, какие представляются его взору во всех странах европейских» (Fortia. Т. 3. Р. 305).
815Так Сталь описывает счеты, которые во Франции до 1812 г. не были известны.
816Датировка эта почерпнута не из «Истории России» Левека (основного источника г-жи де Сталь), который сообщает, что первая типография в России была заведена при Иване IV (см.: Levesque-1800. Т. 3. Р. 163). Возможно, Сталь связывала появление в России книгопечатания с фигурой Петра I, ошибочно приписывая монарху-демиургу еще и это нововведение; впрочем, Петр стал номинальным правителем России не 120, а 130 лет назад, если отсчитывать от 1812 г., что же касается осуществленной им реформы русского письма (введение гражданского шрифта для печатания светских изданий), то она была проведена в 1708–1710 гг., то есть, по отношению к 1812 г., сотню лет назад.
817Сталь побывала в театре 16/28 августа, на единственном представлении трагедии Озерова в этом месяце (см.: История русского драматического театра. М., 1977. Т. 2. С. 473); о страхе перед отцовским проклятием Ксения рассуждает в д. 4, явл. 5. Трагедия Владислава Александровича Озерова (1769–1816) «Димитрий Донской», написанная в 1806 г., была впервые поставлена 14 / 26 января 1807 г., в разгар военного конфликта с Наполеоном, и благодаря политическим аллюзиям и патриотическим тирадам заглавного героя имела огромный успех среди публики; сходную реакцию вызвала она и в 1812 г. Ср. свидетельство современников: «После взятия Смоленска играли Дмитрия Донского, все плакали, не как в театре, а как бы в церкви, особенно во время молитвы Дмитрия, которою трагедия кончается; непосредственно за оной, когда все чувства растревожены, воспламенены, когда всякий чувствует живо любовь к отечеству и горесть от его несчастия, выходит актер для объявления, что на другой день будут играть французскую комедию. При сем ненавистном имени начали шикать, актер хотел продолжать, закричали „не надо“ и не дали ему кончить» ( Бакунина. С. 409); «После Успенского поста, в который театр всегда закрывается, 16 августа дан был „Дмитрий Донской“. Стечение зрителей было бесчисленное, между прочими английский миротворец адмирал Бенкен [правильно: Бентинк] и известная г-жа Сталь. После трагедии несчастный Щеников [актер русской труппы] вышел объявлять для завтра Расинову оригинальную „Федру“, но при первых словах „Завтра французские актеры“ стали бить в ладоши, кричать „русскую, русскую и пр.“. Объявитель смешался, но дирекция устояла: 17-го давали французскую „Федру“. Зрителей было немного, и все кончилось тихо» ( Хвостов. С. 386–387). В это время в Петербурге спектакли шли в Малом (деревянном) театре, располагавшемся у Невского проспекта, на месте Екатерининского сада (здание Большого каменного театра сгорело в 1811 г.); представления русской труппы чередовались с представлениями труппы французской (см.: Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург. СПб., 1994. С. 100–101). Г-жа де Сталь могла судить о трагедии Озерова не только по устному переводу или пересказу петербургских знакомцев, но и по переводу нескольких сцен (тех, впрочем, где Ксения не участвует), которые французский дипломат граф Огюст де Лагард-Шамбонас включил в свою книгу «Энтузиаст, или Видели ли вы ее? Диалог в стихах о приезде госпожи де Сталь в Вену», изданную в 1810 г. в Париже и Петербурге (внешне весьма почтительную по отношению к сочинительнице «Коринны», но не лишенную иронии по поводу вызываемых ею восторгов). Замечания г-жи де Сталь о сугубо французском построении трагедии Озерова, соответствовавшие ее общим представлениям о подражательном характере русской литературы, отчасти совпадали с критикой, которую обрушили на Озерова после премьеры 1807 г. русские литераторы, упрекавшие его в «нарушении исторической достоверности и в клевете на русских князей, думающих в его пьесе больше о своих любовных переживаниях, чем о защите отечества» ( Зорин А. Л. Озеров // Русские писатели, 1800–1917. М., 1999. Т. 4. С. 407). Уже после смерти Озерова о праве его трагедии именоваться народной скептически отозвался Пушкин; см. в заметке «О народности в литературе» (1825): «Что есть народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?» ( Пушкин. Т. XI. С. 40). По замечанию Б. В. Томашевского, в этой заметке, написанной почти одновременно с репликой на статью Муханова о г-же де Сталь (см. примеч. 853), Пушкин «усугубил отзыв Сталь, не признав народности и за этой единственной ситуацией» ( Томашевский Б. В. Пушкин. М., 1990. С. 98; см. также: Томашевский. С. 90). Томашевский справедливо указывает на историческую недостоверность пересказа трагедии Озерова в книге г-жи де Сталь: татар в это время не изгнали «за Казань», а Золотой Ордой называлось не татарское войско, а татаро-монгольское государство. Между тем оба этих утверждения совершенно естественны в устах француженки, для которой татары ассоциируются со столицей Казанского ханства, а их войско — с ордой ( фр. horde — полчище); следует заметить, что в русском тексте Озерова слово «орды» употребляется также и в этом значении (ср., например, в первом явлении 3-го действия: «Но не Мамай страшит, / Хотя б татарских орд с собой привел он боле»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
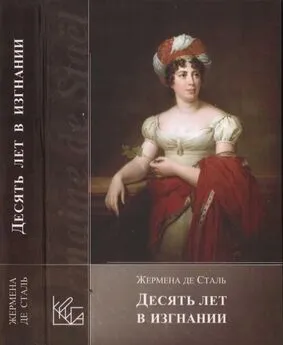
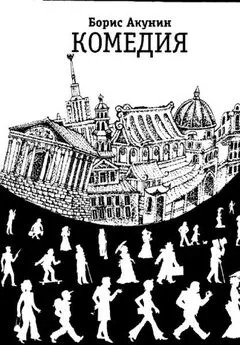

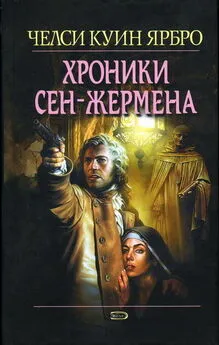
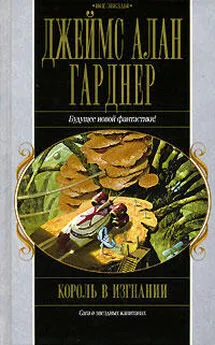
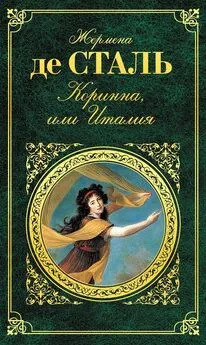
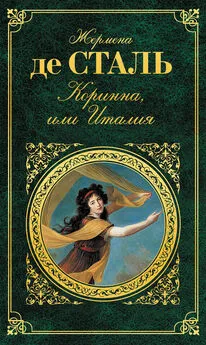
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
