Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
784Подробное описание роговой музыки дано у Массона ( Masson. Р. 179) и в письме князя де Линя к маркизе де Куаньи из Херсона (1787), включенном Сталь в сборник сочинений князя (см.: Ligne. Р. 498).
785В сказках «Тысячи и одной ночи» рассказчица Шехерезада — дочь царского визиря, своей законной женой царь (султан) делает ее только в самом конце повествования.
786В поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580) Армида — волшебница, засланная в лагерь христиан для того, чтобы соблазнить их своими чарами и заставить забыть о священной цели крестового похода.
787Национальной религией калмыков начиная с XVI в. был ламаизм (северная ветвь буддизма), но европейцы, не изощренные в знании Востока, зачастую именовали тамошних иноверцев язычниками (подробный рассказ о «мифологии калмыков» см. в: Chappe. Т. 2. Р. 470–496). Что же касается калмыков, воспитывавшихся у Нарышкина, то они, скорее всего, были крещены после того, как их взяли в дом православного барина; ср. запись в «Путевом дневнике»: «Цивилизованный калмык» ( Carnets . Р. 302). Вдобавок, поскольку европейцы подчас причисляли к калмыкам любого человека с неславянскими чертами лица, а порой и вообще любого жителя Российской империи (ср. удивление, вызванное у Кюстина тем фактом, что великий князь Александр Николаевич «не похож на калмыка» — Кюстин. С. 21, 742), возможно, что в доме Нарышкина Сталь видела представителей какой-то другой восточной народности.
788Ср. в «Путевом дневнике» о Москве: «Несмотря на чрезвычайную жару, все искусственно, даже зелень садов» ( Carnets. Р. 290) и о Царском Селе: «Искусственные газоны, искусственные каштаны. Тщательно ухоженные сады — контраст с природой, который превращает их в своего рода десерт» ( Carnets. Р. 317). В дневниковых записях тема искусственности петербургской природы и петербургских развлечений вообще занимает очень большое место; см., в частности, о даче Нарышкина (записи рукою Альбертины, исправленные самой г-жой де Сталь): «Природа без птиц, без овец — чтобы не повредить траву. […] Деревянные горы: удовольствие, имеющее вид опасности» ( Carnets. Р. 302–303). На эту искусственность, неорганичность русской цивилизации, ее театральный, а следовательно, неокончательный, иллюзорный характер указывали и путешественники XVIII в.; см., например, в «Мемуарах» графа Л.-Ф. де Сегюра, изданных в 1824–1826 гг., но описывающих царствование Екатерины, образ цивилизации в России как «тонкой коры, сквозь которую внимательный наблюдатель без труда мог разглядеть старую Московию» ( Ségur. Т. 3. Р. 33); впоследствии Кюстин положил этот же мотив в основу «России в 1839 году» и придал ему афористическую форму в знаменитом определении «империя фасадов».
789Это развлечение — катание со специально построенных дощатых гор в летних санках на колесиках — было заимствовано у русских французами и под названием «русских гор» получило большую популярность в Париже; первые такие горы были выстроены у заставы Руль в 1816 г. (см.: Montclos В. de. Les Russes à Paris au XIXe siècle, 1814–1896. Р, 1996. Р. 20–23).
790Возможно, именно ради того, чтобы не нарушить стройность этого представления о русском свете, Сталь не упомянула в тексте тех русских подданных, с которыми она, бесспорно, виделась в Петербурге и с которыми наверняка вела беседы куда более содержательные, чем те, какие велись в доме Нарышкина. К их числу принадлежит, кроме уже упоминавшегося Фабера (см. примеч. 676), князь Петр Борисович Козловский, старый знакомый г-жи де Сталь (см. примеч. 14). Единственное письменное свидетельство общения Сталь с ним — короткая помета в записной книжке: «Козловский, Местр и Джон [Рокка]» ( DAE- 1996. Р. 425). Однако Козловский находился в Петербурге как минимум до середины октября 1812 г. (см.: Козловский П. Б. Социальная диорама Парижа. М., 1997. С. 175), и трудно предположить, что он, 6/18 июня 1812 г. писавший г-же де Сталь из Вильны о своем горячем желании увидеться с ней (см.: CS. № 39. Р. 22–24), не воспользовался ее пребыванием в северной столице. Что же касается круга тем, которые князь обсуждал с г-жой де Сталь, о нем можно судить по более поздней (впрочем, происходившей в либеральной обстановке Парижа эпохи Реставрации, 6 февраля 1817 г.) их беседе, пересказанной Козловским в письме к графу И. А. Каподистрии от 7 / 19 августа 1818 г.; обсуждался, среди прочего, вопрос о том, имеет ли народ право на сопротивление властям (см :. Дурылин, С. 310). О недостаточной «интеллектуальности» русского светского общения см. также наст, изд., с. 143 и примеч. 680. К числу собеседников, встреченных в России, но не упомянутых в тексте «Десяти лет», относится и швейцарский эмигрант Фердинанд Кристин (1765–1837), которого связывали с г-жой де Сталь узы дружбы (а в самом начале века, возможно, и любви) и который в письме от 23 июля 1812 г. пересказал своему русскому покровителю графу А. И. Моркову свою беседу с г-жой де Сталь в Москве: в ответ на слова Кристина о том, что Россия старалась не дать Наполеону повода напасть на нее, Сталь воскликнула: «Вы все еще полагаете, что ему надобны предлоги; меж тем он уже тринадцать лет доказывает всей Европе, что из местоимений, существительных и глаголов можно составить фразы на любой вкус; горе тому, кто этим фразам поверит; сам он, ручаюсь, не верит им ни в малейшей степени» (цит. по: Шильдер Н. К. Император Александр и госпожа де Сталь // Вестник Европы. 1896. № 12. С. 571). О Кристине см.: Barbey F. Suisses hors de Suisse. Lausanne, 1914. Р. 97 et suiv.; Ferdinand Christin et la princesse Tourkestanov. Moscou, 1882. Р. 3–22; Гречаная. C. 267–279.
791Описание развращенности русских нравов, проявившейся, в частности, в образовании так называемого «физического клуба», члены которого, полсотни мужчин и полсотни женщин, отдавались друг другу без разбора, по воле случая, дано у Фортиа де Пиля ( Fortia. Т. 3. Р. 358–363) и, с меньшими подробностями, у Массона ( Массон. С. 144–145); ср. также фрагмент из «Записок» Массона, не вошедший в русское издание: «Итак, не в России следует искать Юлию — возлюбленную Сен-Пре и еще менее Юлию — супругу Вольмара. Не знаю, с какой стати вздумалось Руссо назвать Вольмара русским. Родина рабства не бывает родиной сильных страстей: здесь с большим трудом можно отыскать материал для романа» ( Masson. Р. 206; Массон имеет в виду роман Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»). Применительно к более давним временам о распутности русских женщин, которые «не ведают иных радостей, кроме наслаждений чувственных, и часто отдаются своим рабам, выбирая их по телосложению и мощи», писал Шапп д'Отрош ( Chappe. T. 1. Р. 259).
792Комментируемый фрагмент нашел косвенное отражение в пушкинском «Рославлеве»; Полина протестует именно против такого отношения к женщине, какое Сталь приписывает русским вельможам: «Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтоб нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому принуждают нас» ( Пушкин. Т. VIII. С. 153). Впрочем, Сталь описывает здесь лишь внешнюю сторону русского быта; более проницательные иностранные наблюдатели отмечали подспудное, неофициальное, но оттого не менее сильное влияние женщин из высшего света на общественную атмосферу; см., например: «Вообще хозяйки салонов весьма влиятельны. Самые видные из них образуют своего рода штаб общества, в котором выгодно иметь друзей, если хочешь преуспеть и не желаешь стать жертвою злословия» (письмо барона Штейна к жене от 29 сентября 1812 г.; цит, по: Grunwald. Р. 200); ср. также, применительно к более раннему периоду, рассуждения Массона о «гинекократии» в русском свете: «В царствование Екатерины женщины уже заняли первенствующее место при дворе, откуда первенство их распространилось и на семью, и на общество» ( Массон . С. 142–143).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
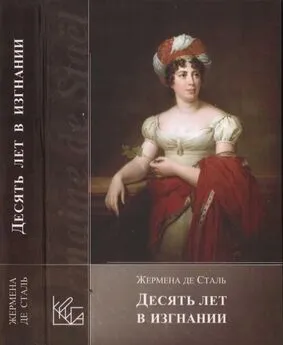
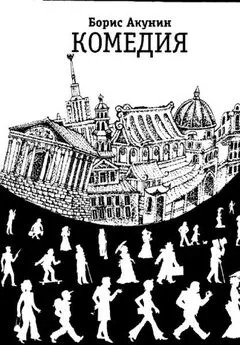

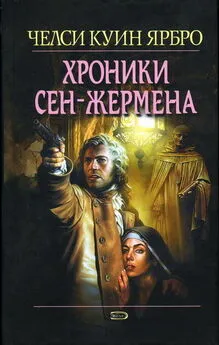
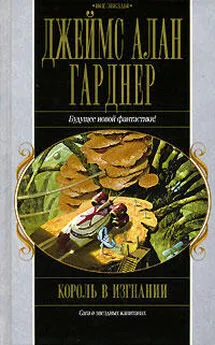
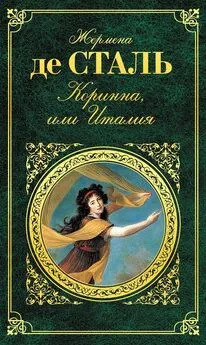
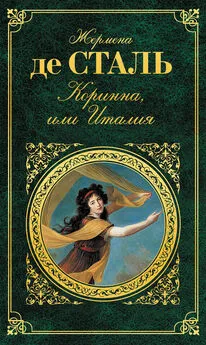
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
