Йозеф Рыбак - «Иду на красный свет!»
- Название:«Иду на красный свет!»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йозеф Рыбак - «Иду на красный свет!» краткое содержание
Большинство произведений на русском языке публикуется впервые. В книге использованы рисунки автора.
Предназначена широкому кругу читателей.
«Иду на красный свет!» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Благодаря тому что поэзия здесь, по сути, вырвалась из камерных залов и салончиков на широкий простор, подвергалось испытанию и качество ее звучания, которым ныне в большинстве случаев просто пренебрегают. Исключение составляет Советский Союз с его лучшими поэтическими традициями, берущими начало со времен поэтического трибуна революции, «главаря агитаторов» Владимира Маяковского.
В отличие от Советского Союза, к сожалению, у нас нынешняя современная поэзия, как правило, поэзия визуальная. Стихи пишутся для восприятия их глазами, для тихого чтения под лампой, для одного читателя, который с книжкой в руках скрывается от людей, как бы стыдясь своего увлечения поэзией, считая это слабостью. Кроме того, большинство поэтов пишут теперь стихи, пренебрегая рифмой и ритмом, такая поэзия стремится быть как можно прозаичнее, пишущие считают мелодичность чем-то старомодным и полагают, что чтение стихов — самое интимнейшее занятие и что их будут разгадывать, как кроссворд.
У западноевропейских культур мы заимствовали много хорошего, что явно обогатило нашу поэзию и указало ей путь к новому, более эмоциональному поэтическому самовыражению. Многое из того, что мы взяли у Рембо, Аполлинера, Верлена и Верхарна, явилось ценными, вдохновляющими импульсами, которые помогли созданию наших собственных ценностей. Но в последние годы мы переняли у Запада и многое преходящее, весь этот, с позволения сказать, рафинированный изоляционизм, превращающий поэтическое творчество в дело сугубо личное и достаточно далекое от народного читателя. Нормальный культурный человек не принимает подобную поэзию, потому что она ему ничего не дает. Перестает он читать и хорошие стихи. И не дай ему бог читать их в поезде, в трамвае или в кафе и быть при этом пойманным с поличным! Он провалился бы от стыда. Телевидение в большинстве своих программ, где главное слово остается за режиссером, а вовсе не за поэтическими строфами, также способствует тому, что поэтическое творчество считают стоящим как бы в стороне от жизни, чем-то вроде украшения. И поэты к этому привыкают, не принимают в расчет массовую публику, им и в голову не приходит, что их стихи надо бы читать и вслух. И вот качества звучания стиха чахнут и сходят на нет, а способность поэзии воздействовать на массы людей уменьшается чем дальше, тем больше.
И при этом вне сомнения тот факт, что у поэзии, не пренебрегающей качеством звучания, стихами, написанными для исполнения и для чуткого уха слушателя, гораздо больше предпосылок для того, чтобы выполнить общественную задачу, воздействовать на читателя и увлечь его ярким и живым словом.
«Слово в соединении с жестом имеет громадное значение», — говорил Виктор Шкловский. Ведь он прошел школу бурных двадцатых годов, когда поэзия гремела с трибун и на площадях революционной России, когда она сотрясала заводы и лекционные залы, вызывала бурный отклик, приводила к дискуссиям.
Это было время, когда поэты забрасывали слушателей словами «нечесаными» и «немытыми», наполненными новым ритмом и новыми образами, добытыми из самой современной современности.
В такие эпохи нет места для поэзии, копающейся в мелких чувствах, для позерства нытиков, для семинаристской прилизанности, не выходящей за рамки пристойности.
И здесь, в Струге, на поэтическом мосту, перед моими глазами вновь повторялось то, что уже когда-то было. И оно проходило испытание. После каждого выступления того или иного поэта я чувствовал, что Струга вновь возвращает нас куда-то, где поэзия некогда чувствовала себя хорошо, во времена русских революционных поэтов, во времена С. К. Неймана, Иржи Волькера и пролетарской поэзии двадцатых годов, когда благодаря своему неподражаемому исполнению огромную популярность снискал человек по имени Йозеф Зора, один из самых известных наших чтецов.
Меня удивило, сколько поэтов, считающих себя тем не менее создателями современной поэзии, придерживаются этой традиции. И понял, чего смогли бы добиться эстрады, если б поэты пожелали использовать их для своего искусства и если б руководители эстрад не довольствовались лишь заурядной и весьма пустой развлекательной программой.
Ведущее место здесь вновь занимали советские поэты во главе с Михаилом Лукониным.
Для участников фестиваля проводились симпозиумы на темы: «Возвращение к прошлому — возвращение к поэзии?», «Будущее мира — отрицание или упрочение поэзии» и «Угроза поэзии и ее безотлагательная потребность».
На первом симпозиуме председательствовал старейший участник фестиваля в Струге, член советской делегации Виктор Шкловский. Он невысокого роста и для своего возраста был поразительно живым и полным энергии. Шкловский — выдающийся советский литературовед и один из основных представителей знаменитого советского художественного авангарда двадцатых годов. Человек с творческим размахом и смелостью, сумевший разойтись с созданной им же теорией, когда понял ее несостоятельность.
Сколько порой в людях, внешне неприметных, взрывчатой энергии и силы!
Виктор Шкловский сидел за столом празднично одетый, он походил на какого-нибудь господина советника, не хватало только сигары во рту. Но когда он встал, чтобы сказать слово, он преобразился, как будто в нем пробудилось все то, что дал ему громадный опыт зачинателя всего поистине нового, всего того, что должно завоевывать все новые и новые области искусства и жизни, потому что остановиться и застыть на одном месте — означает конец любого творчества.
Ему не понадобился даже микрофон. Громким голосом он попросил слова и прочитал свое вступление к симпозиуму. И вдруг он показался всем присутствующим моложе их. И голос его гремел, когда он цитировал Маяковского:
«Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год».
Своим вступлением — вместе с этими стихами — он внес наиболее весомую лепту в дело симпозиума.
Сколько раз именно в связи с этими стихами Владимира Маяковского размышляли мы о поэтическом ясновидении могучего пролетарского поэта, чья взрывчатая фантазия, поэтическая сила воображения и умение увидеть, обострившиеся в пламени бурной и мятежной юности и революционной, агитационной работы, возвестили Октябрь — не с опозданием, а за год до того, как в Петрограде выстрел «Авроры» дал сигнал к атаке на Зимний дворец.
Виктор Шкловский по праву ссылался тут на стихи Маяковского, определяя смысл и значение поэзии и объясняя, каким образом она может участвовать в преобразовании мира.
Следующие выступления я мало понял. Я слушал их довольно невнимательно. Зарубежные гости выступали на родном языке, а наушники, через которые давался перевод, сжимали уши. И кроме того, все время приходилось раздавать автографы. Выступления были разные, одни длинные, другие лаконичные. Михаил Луконин и Владимир Огнев говорили коротко, как и многие последующие ораторы. Самые длинные выступления — написанные в форме докладов — принадлежали румынской писательнице Жоржете Городинке и французскому поэту Деги {263} 263 Городинка Жоржета (род. в 1930 г.) — румынская писательница, критик, переводчица. Деги Мишель (род. в 1930 г.) — французский поэт, переводчик.
. Молодым поэтам тоже нравились выступления короткие.
Интервал:
Закладка:
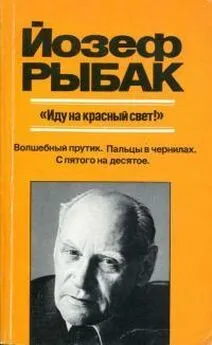
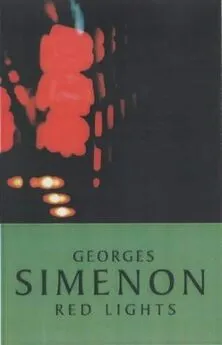
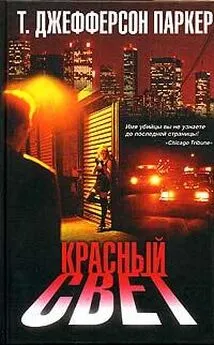
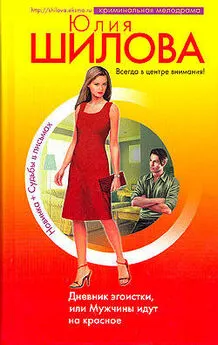

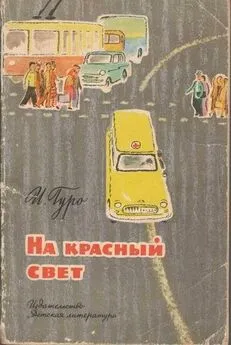

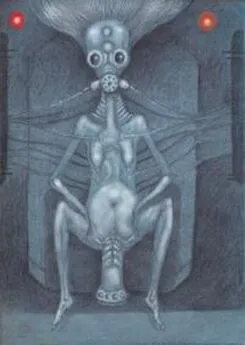
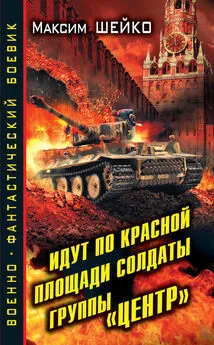
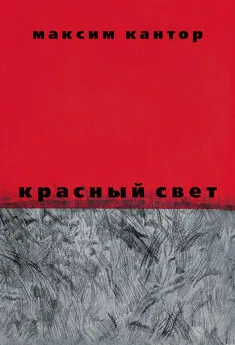
![Kaldabalog - Красный свет [Часть 1 Дэнни Призрак.]](/books/1146919/kaldabalog-krasnyj-svet-chast-1-denni-prizrak.webp)