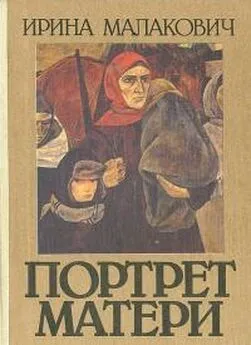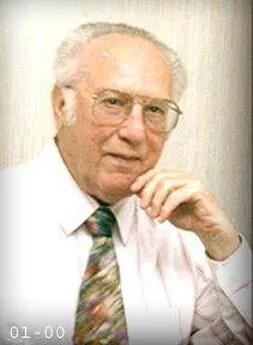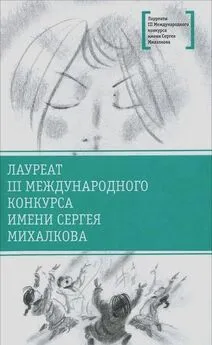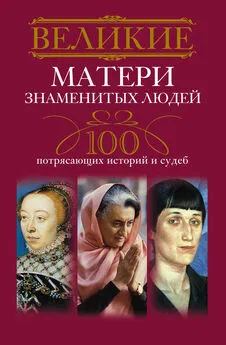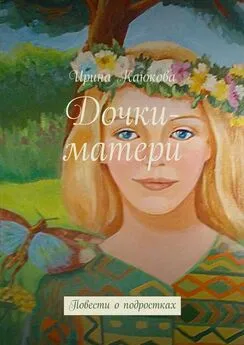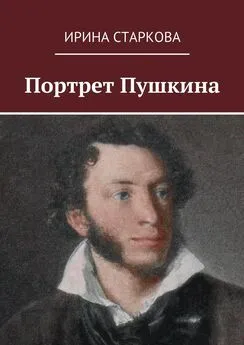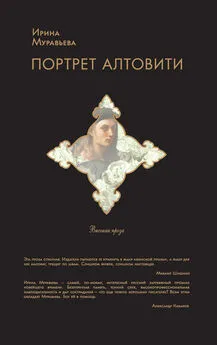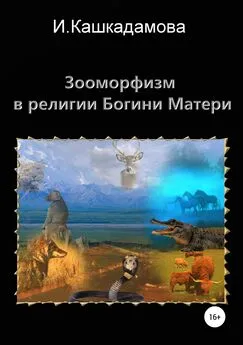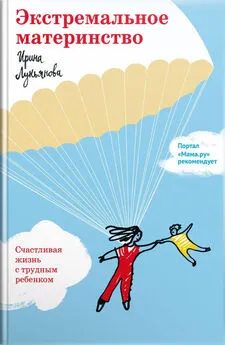Ирина Малакович - Портрет матери
- Название:Портрет матери
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1986
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Малакович - Портрет матери краткое содержание
Портрет матери - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В этом споре у меня нет своих слов. У каждого участника событий, которые встают передо мной, была своя тяжелая ноша. И каждый нес ее, насколько хватало сил, не зная заранее конца.
Дорогами народных мстителей и бойцов Красной Армии честно прошли дети Федоры Васильевны. Погибли на фронте два сына. Ненамного пережила их и старшая из сестер.
Хозяйкино спокойное «От як!» приправлено горечью. Этот дом встретил лихо и стоял под бурей, как старое дерево у околицы. Его треплет и гнет, оно отчаянно машет ветками, но стоит на своем. А если упадет, то здесь, у родного корня. Лихая судьба — зато своя, чужой не надо.
— Так ты нашлась, приехала, а она так за тобой горевала, — много раз говорит Федора Васильевна и в каком-то удивленном недоверии переводит глаза с меня на ситцевую занавеску в цветочек, на дверь, на окно. — Ты здесь, а где ж искать ее...
Ночевать нас устраивают в той самой спаленке с крохотным оконцем.
Долго, долго смотрю в темноту. Эту комнату наполнял живой голос. Здесь билась тревога, напрягалась мысль, взлетали над головой теплые руки... Приди же ко мне хоть во сне, яви лицо и любовь свою — я не нахожу их больше нигде. Дай обнять тебя, положить голову на колени, выплакаться.
Мне приснилось не лицо, не цвет, не звук. Из окружавшей меня тишины, из горячего сумрака ощущений вдруг начали выходить светлые контуры какой-то истины, ответа. Все ясней, все ближе.
Та, которую я ждала и искала столько лет, была здесь, со мной. Я по-прежнему не могла ее видеть и слышать. Но полнота присутствия была от этого даже больше.
Ни до, ни после мне не пришлось еще раз пережить такого совершенного чувства понимания. Оно было осязаемым, почти материальным. В нем разрешилось наконец многолетнее ожидание и смягчилась боль. Может, это был и не сон, а лишь освобождение от всего дневного, суетного и случайного, — мгновенная ясность и очищение сути.
Мама была не около, не далеко, не близко — она была со мной и во мне. Пришло небывалое спокойствие: она не исчезла. Пока буду я, и она не пройдет, не минет, она тоже будет.
ДОРОГА
Утром мы пошли дальше. От дома к дому, от деревни к деревне. И я училась видеть то, что раньше не замечала, на что просто не хватало души, стиснутой отчаянием.
Это был путь от «Берлина» к «Москве».
Если «Берлином» называли во время войны узловую станцию, занятую фашистским гарнизоном, то «Москвой» для всей округи была тогда обыкновенная деревенька, расположенная на краю великих лесов и болот, в самом начале партизанской зоны. Два эти селения противостояли друг другу как полюсы зла и добра, смерти и жизни. А отстояли они друг от друга всего на несколько десятков километров.
Между ними пролегли проселочные дороги и лесные тропы. Нужно всего несколько дней, чтобы пройти по ним из конца в конец. Но эти несколько дней могли подвести черту под всей жизнью, потому что не в гости, не на прогулку ходили по тем дорогам, а только на войну — через невидимую линию фронта.
14 деревень. У каждого связного был свой отрезок пути. От «Берлина» до «Москвы» донесение подпольщиков проходило через множество рук. Этого требовала осторожность. Пятый в цепочке не знал второго, второй — четвертого. Живущие в гарнизоне могли никогда не видеть в глаза «москвичей».
Одной из немногих — учительнице — был доверен партизанский пароль. В самых важных случаях она брала в руки кошик с посоленным ломтем хлеба, набрасывала платок и шла одна, осторожно минуя все 14 деревень.
Теперь ее дорогами пройдем мы. Не туристами и не прохожими. Жизнь давно увела нас из родных краев, но нам надо вернуться на ту, едва различимую среди других тропку, без которой нет пути дальше.
Незадолго до отъезда в Белоруссию принесли мне домой телеграмму. Почтальон, немолодая озабоченная женщина, спросила только фамилию и, услышав, что такие здесь действительно живут, торопливо вручила карандаш, с облегчением объяснила:
— Ну, наконец-то. Несколько дней искали. Адрес перепутан, понимаете? Пришлось по одной фамилии догадываться. Всех на сведем участке перебрала, вы последние. Из Кропоткина ждете кого?
В Кропоткине у нас нет ни родных, ни знакомых.
— А вы прочтите, прочтите, может, по тексту чего поймете, — сказала почтальонша упавшим голосом.
В телеграмме было написано: «Встречай поезд завтра, мама».
Медленная волна поднялась к горлу и откатила. Неужели еще можно надеяться?
С тех пор, когда каждый стук в дверь и каждая женщина на улице с дорожными вещами в руках заставляли сердце бешено колотиться, прошло двадцать лет. У меня растет маленький сын. Я не говорю ему: бабушка придет, жди, когда-нибудь ты ее обязательно увидишь. Знаю, нет такого поезда, который мог бы еще вернуть человека с войны.
И потому мы сами идем по маршруту «Берлин» — «Москва». Идем назад, в прошлое, туда, где были молоды и были живы все наши земляки.
А там лицо обжигает яростное пламя, и летит, летит прямо в сердце раскаленный металл. Мы ничего не можем изменить. Прошлое, то, что уходит стремительно от нас и неизвестно вновь рождающимся, оказывается неотвратимей всего, что происходит сегодня, на глазах.
Здесь — еще можно предвидеть, надеяться, поступать так или иначе, влиять на ход событий.
Там — навечно все неизменно и непоправимо. Люди совершают давно понятые нами ошибки, устремляются к заведомой гибели и ничего не знают о своем геройстве.
Зачем идти туда? По доброй воле — на прошлую войну? Раскапывать старое горе, снова хоронить убитых?..
«Наверно, вам надо что-то доказать, да? — с сочувствием догадываются знакомые. — Восстановить справедливость, вернуть доброе имя?..»
Нет, доказывать ничего не надо. В партийных архивах уже собраны документы и свидетельства уцелевших очевидцев. Они не оставляют никаких сомнений: Марина Малакович была разведчицей подпольного горкома партии, с первых дней войны выполняла опасные поручения Минского подполья и партизанских штабов и погибла в фашистских застенках.
Такую справку на официальном бланке мне выдали при поступлении в университет.
Не о каждом погибшем известно так много.
Отец не забывал нам напоминать, что история сама разберется, кому и за что воздать, что помнить, а что забыть, — ее оценки должны быть беспристрастны. Может, потому что он всю жизнь занимался историей, ему невыносима была даже мысль о возможном подозрении в родственной заинтересованности. «Без нас разберутся». — глухо повторял он, пряча свое горе. Его боль с годами все тяжелей уходит вглубь, не дает свободно дышать, не пускает к людям.
Все правильно, разобрались. Но наш долг еще не исполнен. Нестихающее беспокойство поднимает и гонит меня: иди. Надо спешить — не для истории, для себя, для детей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: