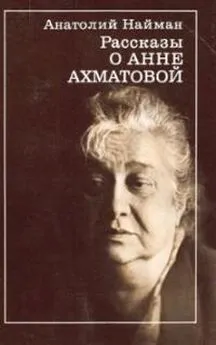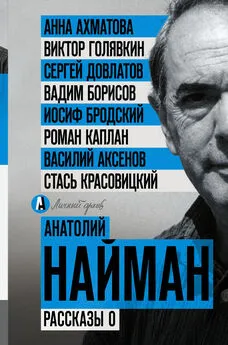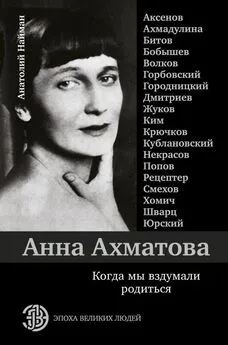Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой
- Название:Рассказы о Анне Ахматовой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- ISBN:5-280-00878-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой краткое содержание
Рассказы о Анне Ахматовой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чудотворной иконой клянусь И ночей наших пламенным чадом.
Оно одно разрешало назвать Блока «Демон сам с улыбкой Тамары», не утруждаясь опровержением того, что
И Пресвятая охраняла Дева Прекрасного Поэта своего.
Оно набрасывало прелестную пелену на страшные намеки, на безумное прикосновение к тому, что неприкосновенно, в «Тринадцати строчках»:
И мир на миг один преобразился, И странно изменился вкус вина. И даже я, кому убийцей быть Божественного слова предстояло, — И то благоговейно замолчала, Чтоб жизнь благословенную продлить.
В ее оценках людей, притом что в суждениях она была воплощенный здравый смысл, на первый план выдвигалась принадлежность их к искусству или отношение к нему. «Он ни в чем не повинен: ни в этом, ни в другом и ни в третьем… Поэтам вообще не пристали грехи», — заканчивает она гимн Поэту в «Поэме без героя». Зная, что мне этот на практике узаконивающий безнаказанность и даже провоцирующий совершение любого поступка по прихоти подход, особенно распространенный в среде артистической молодежи, чужд (я доказывал Бродскому, что поэт не смеет подвергать в стихах поруганью оставившую его подругу уже потому, что он одарен способностью сделать это наилучшим образом, а та не может ему ответить), она не касалась этой темы, разве что в разговоре при мне с третьим человеком. Но вот ее слова, записанные Лидией Чуковской: «…модернисты великое дело сделали для России… Они сдали страну совсем в другом виде, чем приняли. Они снова научили людей любить стихи…» Или о Маяковском: «Он ответил: «А к чему сейчас Хлебникова издавать?» Так он отозвался о своем товарище, о своем учителе… В чем же тогда разница между ним и Бриками? Они равнодушны к изданию его стихов, он — к изданию стихов Хлебникова. Разница есть, и большая, но она в другом: в его великом таланте. Он так же, как и они, бывал и темен, и двуязычен, и неискренен… Но это не помешало ему стать крупнейшим поэтом XX века в России». О Станиславском: «Но вот чем он мне привлекателен: настоящей одержимостью искусством. Ему, конечно, на все и всегда было наплевать: только бы ставить и ставить спектакли, только бы торжествовал театр. «Жизнь» помимо театра его просто не занимала…» И то же о Маршаке: «Впервые я поняла, в чем сила этого человека: в неистовой одержимости искусством». Прочитав, я подумал было, что Ахматова употребила другое слово, для православного человека, каким она была по воспитанию, одержимость — это одержимость бесом; но вот же — о себе, о том, как накатывала на нее Поэма, она свидетельствует, что была «бесовскою черной жаждой одержима»: в любом случае направленность ее пафоса ясна. И Анненского, который «весь яд впитал, всю эту одурь выпил, и славы ждал, и славы не дождался… — и задохнулся», и упал с разорвавшимся сердцем на ступени Царскосельского вокзала, убили, как можно понять из ее слов, недруги искусства, не напечатавшие вовремя его стихов.
…И вот Чехов, писавший только то, что знал наверное, а то, что было сомнительно: «подсказанное чутьем», сны, догадки, — называвший сомнительным, говорит устами Нины Заречной о «святом» искусстве: «…в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть». А до нее исповедуется Тригорин: «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен… Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу… Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где–нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль… И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя…»
Заречная — почти ровесница боготворимой «серебряным веком» Комиссаржевской; «декадент» Треплев, о творчестве которого Аркадина говорит: «…никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер», над которым смеются, которого печатают, но не читают, — это так называемый старший символист, один из тех, что были предшественниками Ахматовой, авторитетами и учителями. И это в «Чайке», пьесе, где интрига между матерью и сыном, разыгрывающими эпизод Гертруды и Гамлета, все время имеет в виду —- вполне «по–ахматовски» — шекспировскую ситуацию; так же как и ссылка на пушкинскую «Русалку»: «В «Русалке» мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка». Тут уж и облако, похожее на рояль, начинает выглядеть пародией на ахматовское знаменитое «Высоко в небе облачко серело, как беличья расстеленная шкурка».
Новое искусство–священнодействие могло «сговориться» с искусством–анализом, искусством–идеей, искусством–проповедью XIX века уже хотя бы потому, что и то и эти «больше чем искусство». Но сговориться с Чеховым, который трактовал искусство только как ремесло, было невозможно. Язык был один — тональность разная. Разных регистров: то, что Чехов выставлял в смешном виде, почти водевильно, стало подавать- ся совершенно всерьез и драматически. Реплики ранних ахматовских стихов и чеховских героинь взаимозаменяемы, сплошь и рядом дословно:
душа тосковала, задыхалась в предсмертном бреду;
вы не стали бы мучить меня — много муки и так, много пыток;
я не плачу, я не жалуюсь, мне счастливой не бывать;
счастье стучится ко мне в окно, стоит только впустить его;
милый, милый! и я тоже; умру с тобой…
пусть тень его видит, как я люблю;
о, как ты красив, проклятый^
я умею любить и прощать—
Куда, к чьему тексту отнести ту или иную строку, зависит от фокусировки, как в рисунке с секретом, на который если смотреть перпендикулярно, видишь крону дерева, цветы и птиц, а если по касательной к плоскости — скорчившегося в ветвях охотника. Затяни винт наводки на резкость — Анна Ахматова, цикл «Смятение»; ослабь — шутка «Медведь», Чехонте.
Лидия Яковлевна Гинзбург, много лет регулярно с Ахматовой встречавшаяся, после ее смерти сказала: «Почему я не задала ей главного вопроса: „Как вы так стали писать, то есть в самом начале?"» Может быть, какой–то ответ дает Чехов: так тогда говорили — барышни, молодые женщины.
В «Чайке» мудрец Дорн, доктор, считающий, что жаловаться на жизнь в старости невеликодушно, всем лекарствам предпочитающий валерьянку и верящий в мировую душу только тогда, когда попадает в толпу, говорит о Треплеве: «Он мыслит образами, рассказы его красочны, ярки, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь». Этот ли приговор новому искусству; или — поскольку искусство священно («наше священное ремесло») — последовательная «профанация таинства» («Серой пахнет. Это так нужно?»); или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности на столь же целенаправленную ахматовскую высокость и тем самым обнаруживающее общие корни; или лакей, от которого пахнет курицей, во всех мхатовских и не мхатовских постановках «Вишневого сада» напоминавший о духоте и пошлости обстановки ее отрочества и юности; или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая. И когда я сказал ей, «что на «Ленфильме» ставят картину по рассказу «Ионыч» и в нее как действующее лицо введен сам Чехов, она не
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: