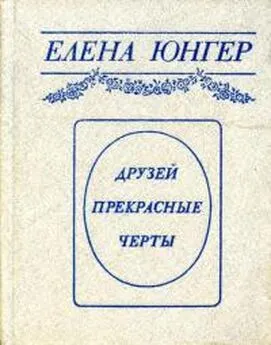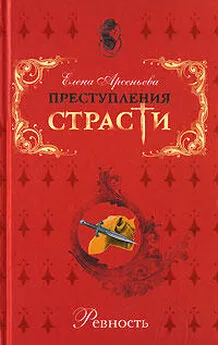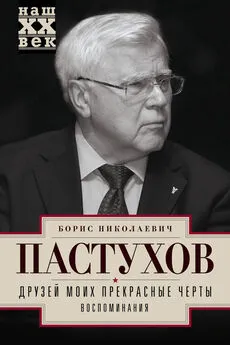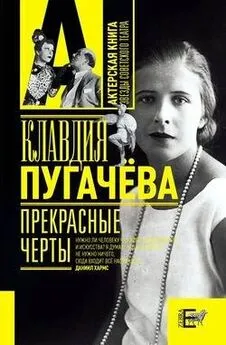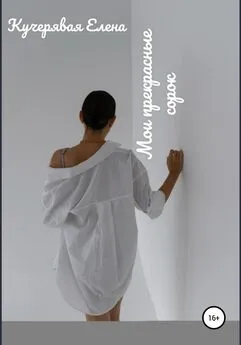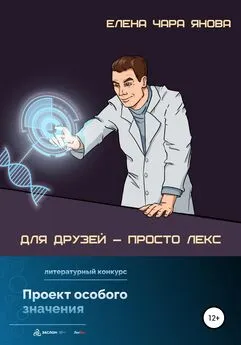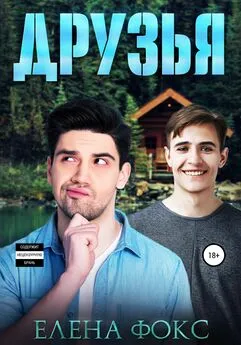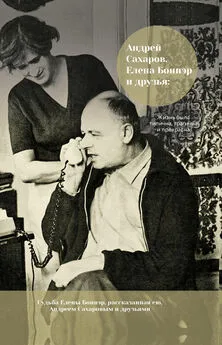Елена Юнгер - Друзей прекрасные черты
- Название:Друзей прекрасные черты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Юнгер - Друзей прекрасные черты краткое содержание
Друзей прекрасные черты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На единственной плитке готовится все. Супы, жаркое, десерты, вплоть до пирожных. Снабжают нас очень хорошо, а после блокады и всех передряг хочется нормальной жизни с обыкновенной посудой вместо пол-литровых банок. Николай Павлович даже приобретает какой-то сероватый сервизик. Одна тарелка от него и сейчас сохранилась. Но что совершенно непостижимо, как мог здесь работать Николай Павлович — в чаду хлопкового масла, на расстоянии одного шага от раскаленной плитки? Как мог он вести регулярную переписку с начальством, постоянно выясняя какие-то вопросы? Переписку с авторами, разбросанными по всей стране? Писать статьи, вести переговоры с артистами, обсуждать с Алексеем Михайловичем Файко заказанную для нас пьесу? А главное — рисовать эскизы? Ведь вся замечательная серия рисунков для фильма «Кощей Бессмертный» была создана в этой комнатушке рядом с плиткой, где и повернуться-то негде.
В театре Николаю Павловичу выделяют небольшой кабинетик значительно позже, где-то на верхотуре. Лифта, конечно, нет, никто из посетителей не любит туда забираться. А дом наш стоит на самой прохожей улице, и многие по пути заглядывают к нам. Да и для деловых разговоров предпочитают театру нашу квартиру. Несмотря на тесноту, нас не обременяет это. В Таджикистане, впервые за всю эвакуацию, появляется ощущение прочности, мы радуемся этому и стараемся не замечать неудобств.
Некоторые актеры, помимо основного дела, занимаются и другими полезными вещами. Василий Петрович Никитин, например, мастерит замечательные деревянные босоножки. Борис Михайлович Тенин осваивает пряничное производство — очень вкусные и красивые фигурные пряники получаются у него.
Театр работает хорошо. Спектакли идут с успехом. Здесь много эвакуированных ленинградцев. Мы обретаем своего постоянного зрителя, в любви которого не сомневаемся. А вдали от дома эта связь становится еще крепче. Удается завоевать и признание местного населения, завязываются дружеские отношения. Доброжелательная, радушная атмосфера окружает нас.
Проходят годы, но память хранит с благодарностью и раскаленный азиатский воздух, и покрытые пылью бульвары, и даже глубокую осеннюю грязь. Не забудется прекрасное здание театра, хранившее в темноватых залах живительную прохладу… Но главное в Таджикистане — славные, гостеприимные люди. Они очень нам помогли в тяжелые для нас времена.
НЕ ТОЛЬКО ДЕРЕВЯННАЯ НОГА
Недавно я прочитала у одного французского театрального критика, известного под псевдонимом Гран Мажик Сиркюс, слова, запавшие мне в душу: «В театре надо быть смиренным. После вас придут другие, и вас забудут. Очень скоро. Если сейчас и говорят еще, иногда, о Саре Бернар, то только потому, что у нее была деревянная нога».
Смешно и очень печально. Не хочется думать так. Да, театральное искусство быстротечно. Не оставляет ни книг, ни картин, ни симфоний, ни прекрасных зданий… Хотелось бы увидеть и услышать, как играли Асенкова и Комиссаржевская, Элеонора Дузе и Сара Бернар (даже с деревянной ногой). Это, увы, ушло безвозвратно.
Но теперь-то есть кино, и телевидение, и радио!
Какие замечательные фильмы — художественные и документальные — берегутся в особых условиях. Сколько интереснейших записей хранится в радиофонотеках, и все же очень многого не хватает. Не знаю, кто решает, что достойно и что недостойно хранения. История объективна и беспристрастна. Что было — то было, для будущего все важно. И какие досадные иногда бывают просчеты. Как неэкономно и даже бездумно-расточительно поступают порой с уникальными явлениями театрального искусства.
Многочисленные и великолепные пленки, запечатлевшие творчество Улановой, Дудинской, Плисецкой… Не сомневаюсь в тщательном хранении блестящих произведений Екатерины Максимовой. Но как же могло случиться, что ничего не осталось от танца Татьяны Вечесловой, кроме нескольких неудачных кадров. И все же ленинградцы помнят ее, хотя последний раз танцевала она на сцене Кировского театра тридцать лет назад. Имя ее известно. О ней рассказывают. Она пишет книги. Но хотелось бы увидеть и как она танцует!
Несколько лет назад, во время подготовки на телевидении творческого вечера Льва Колесова, выяснилось, что почти ничего из его прекрасных выступлений не сохранилось. На радио есть отличные вещи, а на телевидении — не уцелели. А ленинградцы помнят и любят его. Хотели бы его видеть. Хотят о нем знать.
Его первая роль была Красная Шапочка. Из всего класса выбрали для этой роли худенького мальчика с тоненьким голоском, с длинными ресницами над большими серыми глазами. Евгений Львович Шварц почему-то очень радовался этому и любил повторять: «А вы знаете, с какой роли он начал свою творческую деятельность? — И добавлял: — Не мог подождать, пока я напишу «Красную Шапочку», играл в чужой пьесе!»
Никакого театрального образования он не получил, если не считать недолгого пребывания в Ленинградском балетном училище в детские годы. Он запомнил с тех пор наивный стишок, помогавший малышам усваивать трудные движения:
Глиссад, глиссад — рамочка,
Глиссад, глиссад — херувимчик,
Ножка здесь, ножки нет,
Где ножка, где ножка? — Вот она!
Он пробыл там слишком мало, чтобы овладеть балетной техникой, — родители увезли в Краснодар.
И вот тут-то все и завертелось. По сложным семейным обстоятельствам ему пришлось очень рано начать работать. В четырнадцать лет он служил в отделении краснодарского банка — бегал по этажам, разносил ведомости и какие-то бумажки. От сослуживцев своих он узнал, что существует в городе замечательный клуб «Путь к коммунизму».
В клубе кружок самодеятельности набирает молодежь для участия в каком-то грандиозном концерте.
— Хочешь пойти со мной? — спросил юного коллегу симпатичный молодой человек по имени Жора Осипов. Как старший товарищ он покровительственно относился к мальчику. Тот только хмыкнул от радости и помчался завершать служебные дела.
В клубе было полно народу. Режиссер Иост, руководитель кружка, просматривал ребят, отбирая самых музыкальных и поющих. Он собирался создать «Хор братьев Зайцевых».
В двадцатые годы такие пародийные ансамбли были в большой моде. Вся самодеятельность была охвачена этим увлечением. Это были хоры, оркестры, играющие на гребенках, обернутых папиросной бумагой, на подвешенных бутылках, наполненных водой на разном уровне, на старых кастрюлях и сковородах… Но все это было на высоком музыкальном уровне — кастрюли и сковородки тщательно простукивались, подбирались по нотам — оркестры составлялись по самым серьезным правилам.
Участники, в соответствующих гримах и костюмах, представляли всякий сброд, широко «украшавший» тогда городские улицы. Оборванцы, пьяницы, спекулянты, нэпачи, пижоны — все, кого только могла представить себе наблюдательная фантазия режиссера, — появлялись на сцене в остроумных сатирических образах. У каждого был свой «выход», свой номер, затем исполнялись дуэты, трио, и заканчивалось все общим хором или оркестром. У публики такие представления имели успех огромный. Репертуар состоял, главным образом, из популярных мелодий, модных песенок, частушек.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: