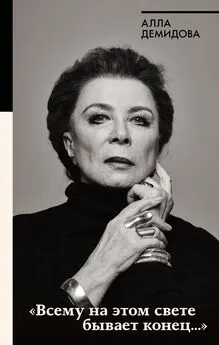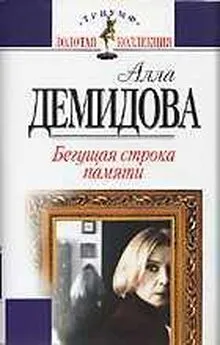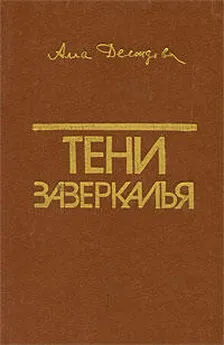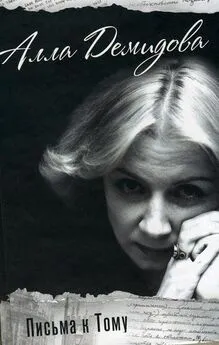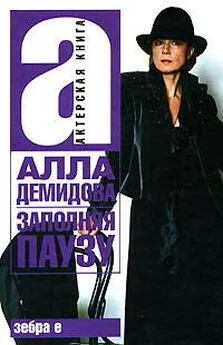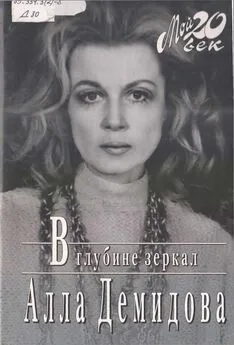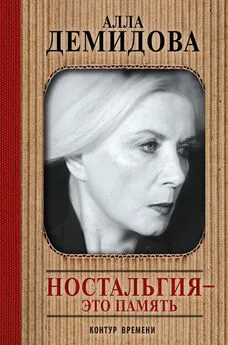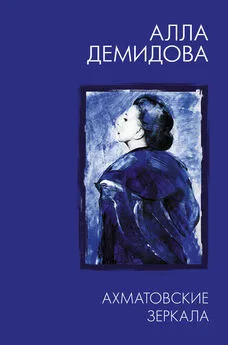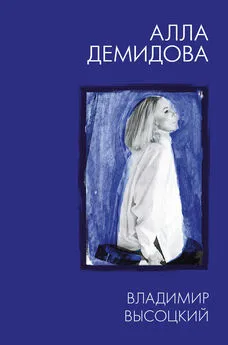Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»
- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-982435-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание
То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.
«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А они ему в ответ со смехом: «Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное… так это только наш вишневый сад».
Говорят ему о Красоте. И какой Красоте! Потому что даже по расчетам Лопахина если 25 000 рублей разделить на 25 рублей, которые они будут брать за десятину, то получится, как известно, 1000. (Десятина – это 1,1 гектара.) То есть у них 1000 десятин этой Красоты (т. е. – одна тысяча сто гектаров). И как же эту Красоту можно разрушать! Конечно, никаких вишневых садов в 1000 десятин в России не было. Это символ. Поэтическая метафора. Лишнее доказательство, что к Чехову нельзя подходить с логикой арифметической линейки. И не надо забывать, что Чехов в «Вишневом саде» – поэт. Пробросы, намеки, скороговорки о несущественном. Это символизм. Блок, Андрей Белый и другие поэты начала века, вспомним это время и этих поэтов.
И потом какой абсурд! Увидеть рядом с собой не Красоту вишневого сада, а тысячи построенных дач, почти город. Рядом с дачей в Переделкино, которую мы тогда с мужем много лет снимали, разрастались дачи в «Мичуринце», и то мы роптали. А то тысячи дач! Ужас!
А в детстве я приезжала к бабушке в деревню под Владимиром. Вокруг «дали неоглядные» – поля, лес, речка. Красота! Потом стали строить дачи, но город все наступал и наступал. И деревня превратилась в улицу города. Я давно туда не езжу. У меня в памяти остались эти просторы. И, кстати, вишневые сады. Владимирская вишня очень вкусная!
Во время репетиций я не люблю читать статьи о пьесе, которую репетируешь, но тут я не удержалась и читала о Чехове и «Вишневом саде» все, что попадало под руку: и раннюю статью молодого Маяковского «Два Чехова», и Льва Шестова «Творчество из ничего», и Мережковского, и Чуковского… и все свои сумбурные мысли от прочитанного выложила Эфросу. И он, посмеиваясь, говорил, что из этого вовсе не следует, что так можно представить Чехова сегодня, выведенным на уровень современности, современного нашего понимания театра и жизни.
Притащила даже как-то письмо Мейерхольда Чехову: «Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом прежде всего. В третьем акте на фоне глупого „Топтанья“ – вот это „топтанье“ нужно услышать – незаметно для людей входит Ужас.
„Вишневый сад продан“. Танцуют. „Продан“. Танцуют. И так до конца… Веселье, в котором слышны звуки смерти. В этом акте что-то метерлинковское, страшное. Сравнил только потому, что бессилен сказать точнее. Вы несравнимы в Вашем великом творчестве. Когда читаешь пьесы иностранных авторов, Вы стоите оригинальностью своей особняком. И в драме Западу придется учиться у Вас».
Эфрос посмеялся и сказал – вот видите, как мы точно почувствовали Чехова.
Разговора «на равных» между режиссером и актером практически не бывает. У актера почти всегда «пристройка снизу», ученика – к учителю, подчиненного – к начальнику. А у Эфроса к нам, актерам, всегда было отношение взрослого к детям. Не свысока, а так – посмеиваясь: что, мол, с них возьмешь – дети! Он нам много прощал, не раздражался на нашу «детскую» невключенность или невнимание, но тихо переживал про себя. И мне такое отношение нравилось, ведь он так прекрасно знал театр, и естественно, что мои рассуждения часто вызывали у него улыбку. Правда, иногда он забывал, что мы тоже в театре не новички, выходим на сцену уже много лет… – но эта мысль придет ко мне потом, когда Эфрос, несмотря на мое предостережение, станет главным режиссером «Таганки». А сейчас, на репетиции «Вишневого сада» – все было прекрасно, радужно и влюбленно.
Лопахин тоже относится к персонажам «Вишневого сада», как к детям. Он их безумно любит, и они ему доверились, поэтому покупка Лопахиным вишневого сада и для них и для него – предательство. Он это хорошо чувствует. Как если бы сам продал этих детей в рабство. От этого – крик души в монологе, боль, которая потом превращается в ерничанье, – он закрывается и от себя, и от Раневской пьяным разгулом.
Монолог Лопахина в третьем акте «Я купил…» исполнялся Высоцким на самом высоком трагическом уровне лучших его песен. Этот монолог был для него песней. И иногда он даже какие-то слова действительно почти пел: тянул-тянул свои согласные на хрипе, а потом вдруг резко обрывал. А как он исступленно плясал в этом монологе! Как прыгал на авансцене за веткой цветущей вишни, свисающей с верхней падуги, и как пытался ее сорвать! Он не вставал на колени перед Раневской – он на них естественно в плясе оказывался и сразу менял тон, обращаясь к ней. Моментально трезвел. Безысходная нежность: «Отчего же, отчего вы меня не послушали?…» Варя раз пять во время его монолога бросала ему под ноги ключи, прежде чем он их замечал, а заметив – небрежно, как само собой разумеющееся: «Бросила ключи, хочет показать, что она уже не хозяйка здесь…» И опять на срыв: «Ну да все равно… Музыка, играй… Музыка, играй отчетливо!» Любовь Лопахина к Раневской – мученическая, самобичующая. Абсолютно русское явление. У нас ведь не было традиции трубадуров, рыцарской любви, не было в русской литературе любви Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты. Наша любовь всегда на срыве, на муке, на страдании. В любви Лопахина, каким его играл Высоцкий, было тоже все мучительно, непросветленно. Его не поняли, не приняли, и в ответ – буйство, страдание, гибель. Середины не может быть. Как у Тютчева: «О, как убийственно мы любим,/ Как в буйной слепоте страстей/ Мы то всего вернее губим, / Что сердцу нашему милей!» Лопахин сам понимал, что сделал подлость. Он, конечно, уже не купец, но еще и не интеллигент. Когда поехал с Гаевым на торги, он и в мыслях не допускал, что купит, но сыграла с ним злую шутку его азартная душа: когда начался торг с Деригановым, Лопахин включился, сам того не желая: «Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось… Вишневый сад теперь мой!.. Боже мой, господи, вишневый сад мой!» Он не верит еще этому. Уже купив, все равно ищет путь спасения, мечется. Купил еще и потому, что интуитивно понимал, что эта «пристань», к которой он пытался прибиться (к Раневской), – ненадежна и не для него.
ЭФРОС. «Все, что касается взаимоотношений Раневской и Лопахина, по-моему, выглядит очень сильно. Страдания Лопахина из-за Раневской и его беспомощность в деле ее защиты – тоже очень хорошо. Она слабая и очень сильная. Она способна оставаться самой собой. После ее ухода Лопахин долго молча стоит, запрокинув голову, еле сдерживая слезы. Вообще тут очень ясно, как он ее любит. И как хочет ей помочь. Возраст Раневской делает эту любовь ощутимой и конкретной.
Она все время отсылает его к Варе, и он быстро-быстро соглашается: да-да, конечно, ему надо жениться, и обязательно только на Варе. А что ему еще ей сказать?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: