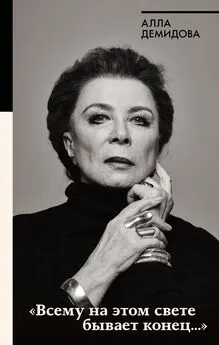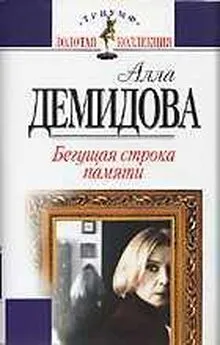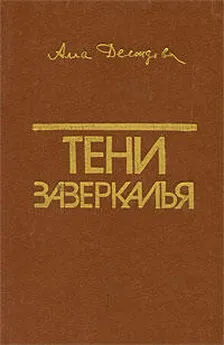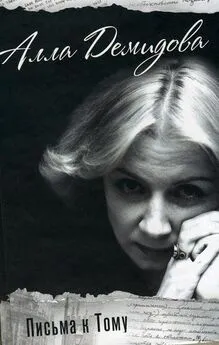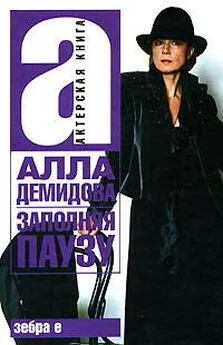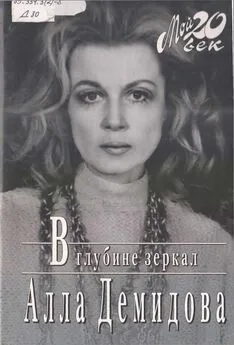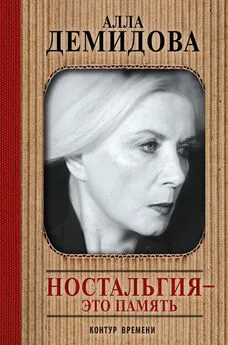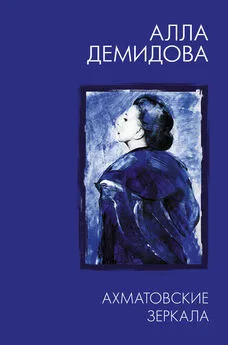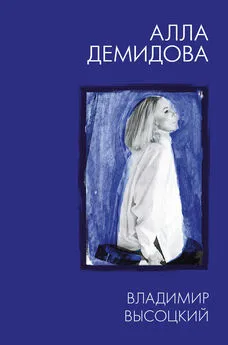Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»
- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-982435-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание
То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.
«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Лопахин предлагает Раневской дать деньги взаймы, но они не берут. Он мог бы, в конце концов, выкупив вишневый сад, подарить его Раневской, но не сделал этого, понимая лишний раз, что он чужой, а от чужих не берут.
Лопахин получил то, что ему не принадлежит от рождения. За этим, по справедливости, должно последовать наказание.
Чехов писал жене: «…для чего переводить мою пьесу на французский язык? Ведь это дико, французы ничего не поймут из Ермолая, из продажи имения и только будут скучать».
Почему это не поймут? Они так же продают и покупают, как это делается во всем мире. Но дело в том, что они продают то, что им принадлежит в реальной жизни. И всякие символические покупки-продажи детства, «райского сада», действительно в начале века им еще неведомы. Пьесы Беккета появятся намного позже.
А если к продаже Вишневого Сада относиться с функциональными понятиями торгов, векселей, процентов – то лучше взять пьесу Островского «Бешеные деньги», например. Или «Банкрот». И тогда действительно главным героем пьесы был бы Лопахин. Но «Вишневый сад» не о нем.
Россия стоит на пересечении восточного мистицизма и западного прагматизма, как часто пишут умные люди.
Кстати, на пересечении дорог и случаются всяческие катаклизмы. Революции. Войны. Перевороты. Перестройки. Передел собственности. И это будет вечно продолжаться. У нас место такое – нам никуда не деться.
Первый акт начинается рассветом. «…скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник», – пишет Чехов в ремарке.
Лопахин спрашивает: «Который час?» – и Дуняша отвечает: «Скоро два. (Тушит свечу.) Уже светло».
Обычно в мае в 2 часа ночи темно, но если прибавить два часа разницы (мы не знаем, где этот сад – в средней полосе или на юге), то в 4 часа ночи начинается рассвет.
Я помню, в театральной школе Парижа мы с Табаковым проводили мастер-класс по «Вишневому саду». Табаков предложил Дуняше за неимением свечи войти в темную комнату, где предварительно погасили свет, с горящей зажигалкой. Студентам это понравилось – необычно, но когда она сказала: «Скоро два. Уже светло», – в комнате раздался смех.
Лопахин досадует на себя, что заснул, но срывается на Дуняше, кричит на нее. – «Хоть бы ты меня разбудила!» Он с ней почти вровень, во всяком случае, рассказывает про Раневскую ей. Вспоминает Раневскую – «…еще молоденькая, такая худенькая» и делает какой-то особенный акцент удовольствия, подчеркивая его жестом, очерчивая фигуру Раневской.
Но, с другой стороны, здесь нет диалога в привычном понимании («петелька – крючочек»). Каждый говорит про свое, не слушая друг друга.
Лопахин: «Пришел поезд, слава богу. Который час?… Я-то хорош, какого дурака свалял! Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал. Сидя уснул».
Он не проспал, а его сморил сон от волнения и усталости.
27 июня 1975 . Прогон «Вишневого сада». Опять смотрел Любимов. Вошел в зал хозяином, стал делать замечания осветителям. Вместо Высоцкого – Шаповалов. Очень трудно. Сразу быт, замедленные ритмы. Я на этом фоне излишне суечусь. Пытаюсь искусственно поднять упавший ритм. От этого излишняя экзальтация. Мы с Шаповаловым очень разные по манере игры. Получается два разных жанра.
Любимов позвал всех в свой кабинет. Замечания. Спор Эфроса – Любимова (Чехов – Толстой). Прекрасная речь Эфроса о Чехове-интеллигенте. Любимов, я видела, раздражался, но сдерживался. Они, конечно, несовместимы. И очень разные приоритеты. У меня были билеты на гастроли Шведской оперы на вагнеровское «Золото Рейна», я все время смотрела на часы и чувствовала, что опаздываю. Встала, извинилась и пошла. Любимов взорвался, стал кричать о равнодушии актеров, что им ничего не интересно, что больше не хочет разговаривать, и выгнал всех из кабинета. По-моему, расхождения с Эфросом у них серьезные. Я умчалась.
Эфрос позже напишет в своей книжке: «Работа на Таганке была тяжелой. Трудно приходить в театр с совершенно другим почерком. Только множество поставленных спектаклей позволило мне делать там что-то свое.
Пожалуй, не будь я известен им своими другими работами, я не был бы понят. Иногда я снова чувствовал себя, как когда-то на первых своих репетициях, когда начинал работать режиссером.
На Таганке другие привычки, другой характер репетиционной работы, совсем иная сцена. Манера игры другая.
Их частенько обвиняют в голой форме, но по сути – они гораздо больше реалисты, чем многие из нас.
Это вообще очень интересная тема. Они совершеннейшие реалисты, даже иной раз достаточно элементарные. Это парадокс, что именно я им казался формалистом. Моя условность иногда казалась им „неуловимой“, они привыкли к более весомой, открытой условности.
Но эта их условность жанровая, что ли. А тут, по их мнению, какой-то „абстрактный психологизм“.
Они беспокоились, не будет ли скучноват мой внутренний рисунок, не поддержанный многими сильно ощутимыми конкретностями. Впрочем, работали они прекрасно, но кроме актеров, занятых в работе, есть еще не занятые, и есть, наконец, в каждом театре, так сказать, „идеологи“ данного художественного направления. О, к ним в руки не попадайся, они что-то другое, не свойственное им самим, иногда принимают на стороне , но у себя дома им подавай только то, на чем они сами крепко стоят, хотя, возможно, в свое время они и это с трудом воспринимали. Но потом привыкли, уверовали в успех и теперь – ни-ни, чтобы ничего другого не было!
Прошу извинить меня, но я вспомнил, как однажды Крэг захотел поставить спектакль у Станиславского. И что из этого получилось. В продолжение этого своего шуточного сравнения скажу, что я почувствовал себя скорее Станиславским у Крэга.
Только своеобразие ситуации было в том, что „Крэг“, при всех своих ширмах , любил сочный быт, а „Станиславский“, при всей любви к психологизму , тяготел к непонятной Крэгу условности.
Одним словом, не разбери поймешь!..
Однако я хочу повторить, что мои сравнения шуточны.
Тяжелее всего было актерам, потому что выстоять в своем театре часто труднее, чем выстоять перед публикой . Ведь надо еще к этой публике прорваться через своих, не потеряв веры в то, что делаешь.
И все-таки, кажется, мы к ней прорвались».
Вишневый сад продан. Сколько же денег досталось его обитателям? Ярославская бабушка, как известно, прислала на торги 15 тысяч, а этих денег не хватало, чтобы проценты заплатить.
Лопахин. Я купил!.. Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: