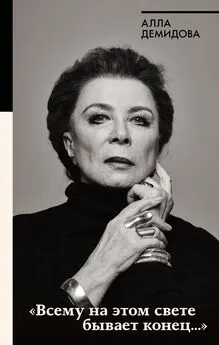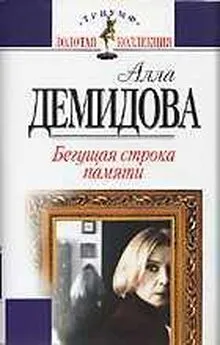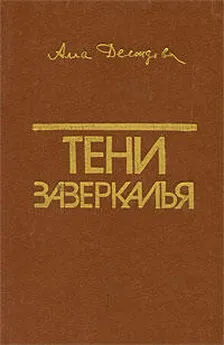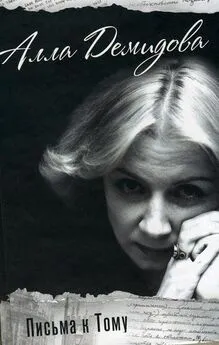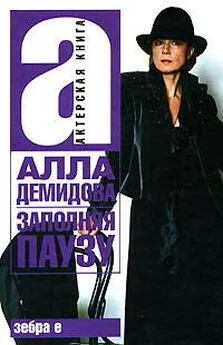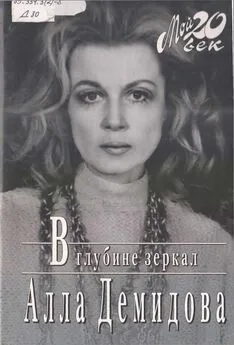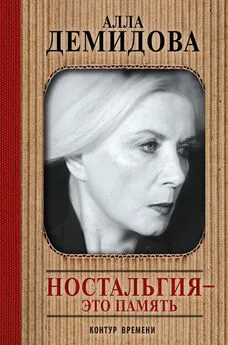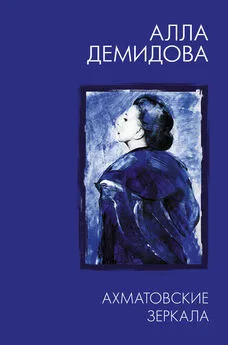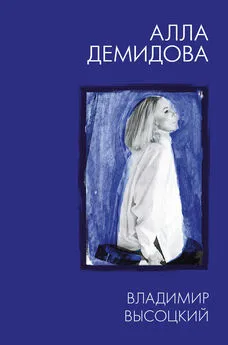Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»
- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-982435-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание
То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.
«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потом мы стали играть «Вишневый сад» не часто. Любимов не снимал с репертуара «Сад», но и не давал нам его часто играть.
2 февраля 1976 . Играем «Вишневый сад». Очень нервно. На спектакль приходит много хороших людей, играть для них приятно.
В основном играем «Сад» на утренниках. Это очень тяжело – такой нервный спектакль играть утром.
Помню, как заменили «Вишневый сад» из-за болезни кого-то (сейчас не помню) на «Деревянные кони». На «Вишневый сад» должна была прийти Майя Плисецкая, которая в то время работала на телевидении с Эфросом. Потом рассказывала: «Пришла на „Вишневый сад“, увидела, что идут „Деревянные кони“, ну и я повернула оглобли».
Мне надо выбегать вслед за Аней, Варей, Шарлоттой так, чтобы зрители не поняли – кто же из них Раневская. Легко! Это получалось, когда Высоцкий начало акта играл нервно. Я выбегала, наталкивалась на Лопахина – «не узнавала его», как будто натолкнулась на какое-то энергетическое препятствие, которое таит в себе угрозу. Когда же Высоцкий играл «супермена», то мой выбег из кулис и дальше казался надуманным.
После смерти Высоцкого, когда восстановили в 1985 году «Вишневый сад» с другим актером в роли Лопахина, этот начальный эмоциональный всплеск совсем не получался. И я была старше, и актер, который играл Лопахина, не мог играть так напряженно, как нужно, и я стала выходить медленно. И даже подвела под это «теорию». Например, когда Любимов приехал первый раз после многолетней эмиграции, мы его встречали в аэропорту. Долго ждали. Вышли все, кто прилетел этим рейсом, а его все не было. Наконец вышел он – медленно, спокойно, в элегантном плаще, в темных красивых очках, но когда я подошла к нему, я увидела за очками слезы на его глазах. Они не текли, но глаза были полны слез. Так и я стала играть выход Раневской. Но дальше рисунок ломался, и Эфрос меня попросил выбегать по-прежнему – легко, быстро и нервно.
Когда Любимов в тот приезд пришел в театр, он вошел медленно, назвал по имени дежурную при входе, вошел медленно, осторожно открывая дверь, в свой кабинет. Ему раньше говорили, что стены с надписями и автографами великих были замазаны, что все переделано. Но кабинет был тот же, и даже на стуле перед его столом висел его пиджак, а внизу лежали его тапочки.
«Детская!.. Детская, милая моя, прекрасная комната…» – первая реплика Раневской.
ЭФРОС. «Странно, но я не помню, что в старом мхатовском спектакле (где играли Книппер, Качалов и Добронравов) было щемящее чувство от возвращения Раневской в свою детскую. Помню, как все там сидели, как пили кофе, болтали, как дремал Пищик, а вот переживаний по поводу возвращения Раневской в свое детство не помню. Но, может быть, я слишком давно смотрел».
ЭФРОС. «После годового перерыва готовлюсь к репетиции, стараюсь вспомнить, на чем строился наш „Вишневый сад“. Читаю пьесу, и, может быть, даже яснее, чем прежде, всплывает основа : все эти люди в тревоге. Они боятся остановиться, боятся конкретного слова о деле , ибо ничто не сулит им счастливый исход.
Возможно, когда-то раньше, в прежних спектаклях, эта тревога скрывалась в подтексте. А внешне – подобие мирного быта, по крайней мере в начале спектакля. Мы же все их волнение вывели на поверхность. Оно росло, росло, ширилось, доходило до паники, до почти что мистической ноты, когда раздавался какой-то звук, похожий на лопнувшую струну. Это как в „Болеро“ Равеля – одна мелодия ширится до кошмара.
Вначале Лопахин с Дуняшей ждут приезда Раневской. Тревога неприкрытая, откровенная, оттого что поезд вовремя не пришел, оттого что Лопахин не знает, какова будет встреча. От одного к другому передается нервность. Епиходов у нас ронял не только цветы, но даже и стол, и плиту на могиле сваливал из-за волнения. Конечно, любое решение может граничить с вульгарностью. Но стоило вспомнить по жизни про ожидание чего-то, когда к тому же не ждешь хорошего, – становилась живой даже очень резкая краска.
Затем Раневская приезжала. Все суетились, скрывали, прятались от чего-то, боялись беду назвать в глаза. Раневская пила кофе, как наркотик, разговор не вязался, все куда-то бежали, вытесняя Лопахина с его деловыми речами. По пустякам открывали душу, совершали глупости и стыдились. Все было очень легко и быстро, потому что люди делали вид, что это не важно, что важнее будет потом, а потом опять бежали прочь от главного, пока наконец не выходил какой-то пьяный прохожий и все разбегались в испуге. Оставался Трофимов, с бессильным гневом твердя о беспечности.
Конечно, „Вишневый сад“, поставленный на Таганке – спектакль спорный. Спорность его хотя бы в том, что Чехов ставится в коллективе абсолютно „не чеховском“. Тут люди прозаичны до дерзости. Их главное оружие – насмешка. А если играют драму, то делают это скорее жанрово. А Чехов в пьесах своих утончен, изящен. Ставить Чехова на Таганке – значит как бы заведомо идти на провал.
Однако в последнее время Чехов не удавался именно там, где, казалось, изящество и лиричность были в самой природе театра. Потому что в этом лиризме и в этой поэтике образовалась доля привычности. Она не давала возможности снова почувствовать существо. Вот почему не простой прихотью было желание поставить Чехова на Таганке. Я, разумеется, знал, что неизбежны потери. Однако эти потери будут иными, чем те, что сейчас в МХАТ, и даже эта смена потерь и некая смена достоинств уже казалась полезной.
Но спорность не только в этом. Спорность и в том, что считать существом „Вишневого сада“. Об этом, впрочем, спорить как бы излишне, ибо со школы уже известно об уходящем дворянстве и т. п. Но и в этом вопросе тоже как бы сгустилась привычность.
Нужен был крен, который будет, конечно, понятен одним, а другим непонятен.
Однако, идя на подобные вещи, нужно идти до конца . Робость тут ничего не прибавит и не убавит. Будет все то же. Нужно было привычную тему конца дворянской усадьбы сделать обобщеннее, философичнее . Чтобы не быт главенствовал, а проблема . Проблема неизбежности гибели одного и переход в другое . Драма прощания с прежним и поиски нового. Но для героев „Вишневого сада“ поиски возможны только ощупью. Ибо эти герои, к несчастью, слишком слабые люди. Они уязвимы из-за плохо прожитой жизни. Они беспечны, они несговорчивы. Они при шторме не знают, как закрывается дверь. Те же, что знают, знают наполовину , однако и их почти никто не хочет услышать. Они чисты, эти люди, но в то же время испорчены. Они достаточно гордые люди, но жалкие в то же самое время.
Нужно трагический смысл сделать как бы гротескным».
2 февраля . «Вишневый сад». Прошел хорошо. Нервно. Высоцкий в прекрасной форме. Золотухин ко мне нежен. Остальное – не важно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: