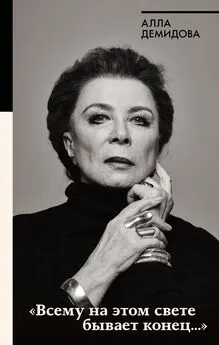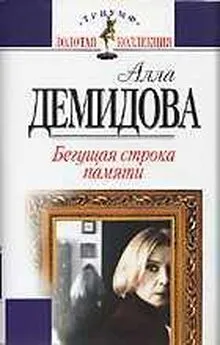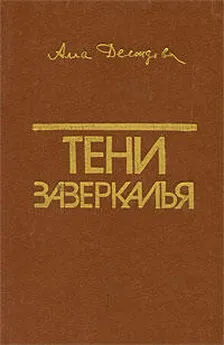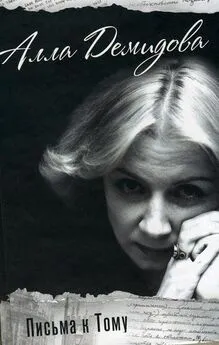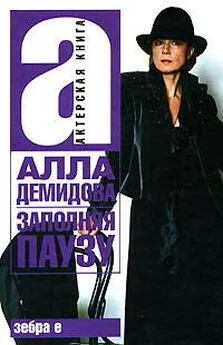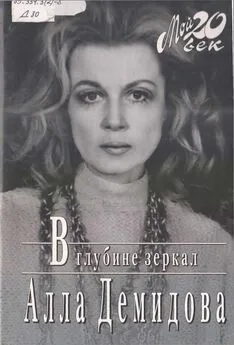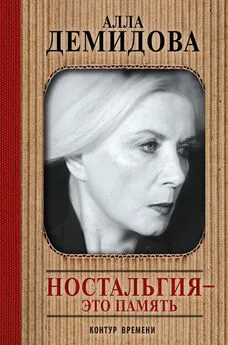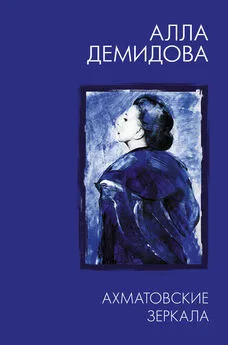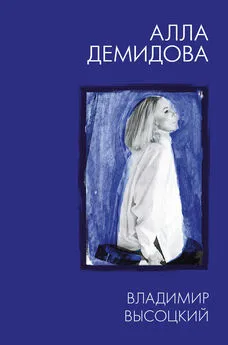Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»
- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-982435-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание
То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.
«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, Лопахин на торгах заплатил за долги и сверх заплатил еще девяносто тысяч. Долг уйдет в банк, где было заложено имение, а сверх долга получат владельцы, т. е. 90 тысяч.
Раневская, уезжая в Париж, берет только с собой 15 тысяч, которые прислала бабушка, а остальные 90 тысяч, наверное, останутся Ане, Гаеву, Варе. Все справедливо.
90 тысяч для того времени были большие деньги. Например, в 1891 году Чехов пишет Суворину про имения, которые хочет купить: «Маленькие есть в полторы, три и пять тысяч. За полторы тысячи – 40 десятин, громадный пруд и домик с парком».
Так что на 90 тысяч вполне можно было купить другое имение. Раневская про себя говорит: «Я уезжаю в Париж, буду жить там на деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения – да здравствует бабушка! – а денег этих хватит ненадолго».
За 10 лет до написания «Вишневого сада» Чехов пишет опять Суворину, что покупает имение за 13 тысяч. Но это недалеко от Москвы. Так что через 10 лет жизнь дорожает, и 15 тысяч не так уж и много.
Но дело не в количестве денег. Они не умеют с ними обращаться. Эти деньги уйдут так же быстро, как ушло их имение.
Точно так же дело не в количестве десятин в их имении, которые иногда подсчитывают некоторые критики.
Лопахин. Если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое 25 тысяч в год дохода. Вы будете брать с дачников самое малое по 25 рублей в год за десятину. Ручаюсь чем угодно – у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, все разберут.
Кто-то скрупулезно подсчитал: это значит – тысяча десятин. А десятина – это 1,1 гектара.
Кроме сада и «земли по реке» у них еще сотни десятин леса.
Это такой простор, что не видишь края. Точнее: все, что видишь кругом, – твое. Все – до горизонта.
Казалось бы, что за беда, если режиссеры ошибаются в количествах десятин. Но тут не просто арифметика. Тут переход количества в качество.
На сцене все эти детали выражаются символом. Или белым цветом, или свисающей с колосников веткой цветущей вишни, или белым задником с портретами предков (как у нас в спектакле) и т. д. Это понятно. Но почему некоторых так интересуют цифры? Конкретность? В пьесах Островского – пожалуйста.
Александр Минкин с подходом арифмометра пытался разгадать «тайну» «Вишневого сада» в статье, которая печаталась в свое время в нескольких номерах газеты. Приведу отрывок из его «расследования»:
«Когда вдруг эти тайны разгадались, то первым делом пришли сомнения: не может быть, чтобы раньше никто этого не заметил. Неужели все режиссеры мира, включая таких гениев, как Станиславский, Эфрос…
Не может быть! Неужели тончайший, волшебный Эфрос не увидел? Но если б он увидел, то это было бы в его спектакле. А значит, мы бы это увидели на сцене. Но этого не было. Или было, а я просмотрел, проглядел, не понял?
Эфрос не увидел?! Он так много видел, что из театра я летел домой проверить: неужели такое написано у Чехова?! Да, написано. Не видел, не понимал, пока Эфрос не открыл мне глаза. И многим, многим.
Его спектакль „Вишневый сад“ перевернул мнение об актерах „Таганки“. Кто-то считал их марионетками Любимова, а тут они раскрылись как тончайшие мастера психологического театра.
Так стало невтерпеж, что узнать захотелось немедленно. Была полночь. Эфрос на том свете. Высоцкий (игравший Лопахина в спектакле Эфроса) на том свете. Кому позвонить?
Демидовой! Она у Эфроса гениально играла Раневскую. Время позднее, последний раз мы разговаривали лет 10 назад. Поймет ли, кто звонит? Разгневается ли на полночный звонок или подумает, что сумасшедший?… Время шло, становилось все позднее, все неприличнее (вдобавок отчество вылетело из головы), а подождать до завтра – невозможно. Эх, была не была:
– Алла, здравствуйте, извините, ради бога, за поздний звонок.
– Да, Саша. Что случилось?
– Я насчет „Вишневого сада“. Вы у Эфроса играли Раневскую и… Но если сейчас неудобно, может быть, я завтра…
– О „Вишневом саде“ я готова говорить до утра.
Я сказал про 15 тысяч, про бабушку, про дочерей и брата, которые остаются без копейки, и спросил: „Как вы могли забрать все деньги и уехать в Париж? Такой эгоизм! И почему они стерпели?“ Демидова ответила не задумываясь:
– Ах, Саша, но это же поэтический театр!
В голосе звучал упрек. Слышно было, что она огорчена таким низменным и примитивным отношением к „Вишневому саду“. Или это отношение Раневской, не знающей цены деньгам».
Я не хочу разбирать всю статью Минкина, в конце концов, «Вишневый сад» – пьеса настолько гениальная, что каждый человек в ней увидит свое отражение.
Но сошлюсь на Эфроса. Он переносил рисунок нашего «Вишневого сада» в Токио и потом написал в своей книжке подробно про репетиции с японскими актерами и свое там житье. Вот что он тогда написал: «Звонят из конкурирующего театра, где тоже ставят „Вишневый сад“. В чем, спрашивают, подавали раньше сельтерскую воду? По пьесе Фирс, оказывается, приносит эту воду. Я сказал, что не знаю. Раневская пьет кофе. Какие в то время были кофейники? Это они, видимо, так, по своему обыкновению, будут точно следовать чужому быту. Я, разумеется, тоже не знал, какие были кофейники, и никогда об этом не думал. А каковы правила игры на бильярде того времени? И что значит „желтого в лузу“? Тут мне совсем стало стыдно. Я, видимо, „абстракционист“, раз не интересуюсь бытовыми подробностями. Жаль, что уеду раньше, чем выйдет тот спектакль. Я бы понял тогда, нужно все это знать или не нужно».
Недавно я была в Японии, и там эфросовский «Вишневый сад» вспоминают до сих пор, а когда я спросила про «Вишневый сад», который был поставлен в Токио параллельно с Эфросом – никто не помнит. «Забыли!» – как сказал бы Фирс.
Справедливости ради надо сказать, что при написании «Вишневого сада» у Чехова менялось и отношение к пьесе. «Она чуть-чуть забрезжила в мозгу, как самый ранний рассвет, и я еще сам не понимаю, какая она, что из нее выйдет, и меняется она каждый день». И пишет дальше: «…в окно видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях».
«Талант сильнее меня», – как-то сказал мне Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Может быть, талант заставлял Чехова перейти от фарса к поэзии, от барыни-старухи к прелестной женщине Серебряного века? Блок написал «Двенадцать», а когда его спрашивали: «Почему? Почему впереди этих бандитов идет Иисус Христос?» – он отвечал: «Не знаю».
Приближение смерти, конца, и не только конца одной человеческой жизни, а конца целой эпохи XIX века, с патриархальными милыми помещиками, с беспечностью жизни, с садами и недотепами, с уходящим временем, а на смену неизвестно что придет. Не Петя же Трофимов со своими сентенциями «Вся Россия – наш сад» или «Здравствуй, новая жизнь!» и не Лопахин, который тоже обречен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: