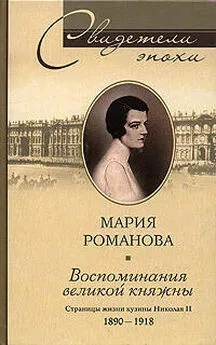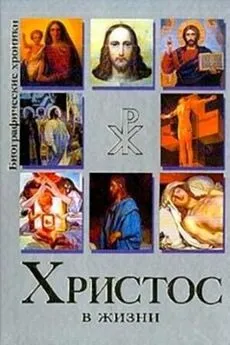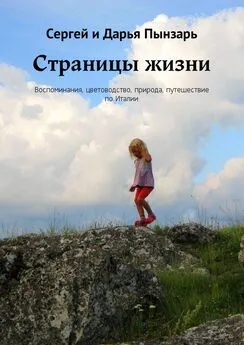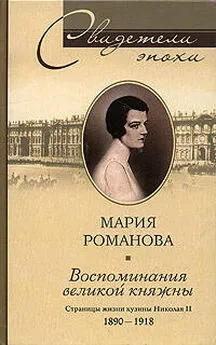Пётр Бартенев - О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников
- Название:О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:5—268—00775—0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Бартенев - О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников краткое содержание
В сборник включены как основные сочинения Бартенева о Пушкине, так и отдельные заметки, разбросанные по страницам «Русского Архива», наиболее значительные из собранных им в разные годы материалов.
Для детей старшего школьного возраста. Составитель, автор вступительной статьи и примечаний Аркадий Моисеевич Гордин
Рецензент — доктор филологических наук Р. В. Иезуитова
lenok555
мной
О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поэма Цыганы, написанная позже, внутренним содержанием своим вполне принадлежит этому степному странствованию. Весьма вероятно, что у Цыган Пушкин и назывался именем Алеко(Александр). Можно догадываться, что тут не обошлось также без любви. От того такая искренность, такая жизненность поэмы. В жилах поэта текла та же восточная кровь. Покинув душный город, где ему было столько неприятностей, Пушкин радовался широкою волею степной жизни:
Под сенью мирного забвенья
Пускай Цыгана бедный внук
Не знает нег и пресыщенья
И гордой суеты наук…
Нет, не преклонишь ты колен
Пред идолом безумной чести;
Не будешь жертвой злых измен,
Трепеща тайной жаждой мести.
О Боже! если б мать моя
Меня родила в чаще леса
Или под юртой Остяка,
В глухой расселине утеса! (VII, 69).
Дорогою в Измаил, или может быть на обратном пути, Пушкин заезжал в Тульчин, где находилась, как мы сказали, главная квартира корпуса и жили некоторые знакомые его: при одном анакреонтическом стихотворении Мальчик, солнце встретить должно, означено им: Тульчин, 1822 [446] .
Кажется, что к ноябрю месяцу этого же года следует отнести новую и последнюю поездку его в Чигиринский повет Киевской губернии, в село Каменку, к Давыдовым. Там встретился с ним один его петербургский знакомый, из записок которого извлекаем следующее место [447]: «Приехав в Каменку,— рассказывает он,— я был приятно удивлён, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростёртыми объятиями… С генералом был сын его, полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут как дома. Орлов, Охотников и я, мы пробыли у Давыдовых целую неделю. Пушкин и полковник Раевский прогостили тут столько же. Мы всякий день обедали внизу у старушки-матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чём хотел беседовать. Жена А. Л. Давыдова, впоследствии вышедшая в Париже за генерала Себастиани, была со всеми очень любезна. У неё была премиленькая дочь, девочка лет двенадцати. Пушкин вообразил себе, что он в неё влюблён, беспрестанно на неё заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать. Мне стало её жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: посмотрите, что вы делаете! Вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя. „Я хочу наказать кокетку, — отвечал он,— прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня“. С большим трудом удалось мне обратить всё это в шутку и заставить его улыбнуться. В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминал Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе. При этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и всё вместе выходило как-то пошло. Зато когда заходил разговор о чём-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов, и не только отдавал каждому из них справедливость, но в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили. Я ему прочёл одно из его неизданных стихотворений, и он очень удивился, как я его знаю… В то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который бы не знал наизусть его запрещённых стихов» [448].
С 1822 года положение Пушкина в Кишинёве становится всё тяжелее и для его горячего нрава невыносимее. Рассказанные нами истории должны же были оставить свои следы на нём. Сон перед поединком Пушкин впоследствии сравнивал с ожиданием замешкавшейся карты в азартной игре (VII, 139) [449], и мы уже знаем, что он действительно не слишком дорожил жизнью и любил отважно идти на всякую опасность; но всё же эти встречи со смертью необходимо потрясали всё его нравственное существование и не могли проходить даром. Конечно, глядя теперь со стороны, можно с уверенностью утверждать, что кишинёвская жизнь была полезна Пушкину, как поэту, что эти страсти разработывали его душу и вызывали нам из неё новые живые звуки, которыми теперь мы так наслаждаемся; но каково было самому поэту в болезненные минуты поэтического развития? Вот вопрос. Нашлись ли люди, возле которых он мог отдохнуть, которых участие было бы не оскорбительно, кому бы он мог вполне открыться и довериться? Он отвечает отрицательно. У него были в Кишинёве добрые приятели: Алексеев, Горчаков, Полторацкий и другие; но не было настоящего друга вроде Дельвига, Малиновского, Пущина (И. И.), или каким был позднее П. В. Нащокин; не было и таких людей, как Карамзин и Жуковский, к которым бы он мог прийти, рассказать всё, требовать совета и не оскорбляясь выслушать упрёки и наставления. Вдобавок, на ту пору, разбрёлся и кружок М. Ф. Орлова. Правда, их горячие, иногда только заносчивые речи и требования, ввиду практической неисполнимости, которая не могла укрываться от наблюдательного и зоркого поэта, должны были порою тревожить его и наводить грусть; но он искренно дорожил этими людьми, и отсутствие их, без сомнения, было ему чувствительно.
Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда? [450]
Такого человека, конечно, не было. Между тем из Петербурга приходили неутешительные вести, надежда на возвращение из ссылки оставалась по-прежнему только надеждою; положение при Инзове, без определённой деятельности, было какое-то праздное и двусмысленное, и в довершение всего недостаток денежный. Впоследствии Пушкин мог говорить про себя, вспоминая прошедшее:
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве ветренной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы… [451]
Само собою разумеется, что большинство людей, с которыми он встречался в Кишинёве, не могли дорожить высокими достоинствами поэта, и всего чаще лишены были способности открывать и замечать их. К тому же им досадно бывало видеть, как этот, едва вышедший из детства, баловень природы, без видимого занятия, без всяких наглядных заслуг, пользуется уважением людей высокопоставленных, водится с первыми лицами города, не хочет знать привычных условий и внешних форм подчинённости, ни перед чем не останавливается и всё ему проходит. Степенное кишинёвское чиновничество не в силах было простить ему, напр., небрежного наряда. Досадно им было смотреть, как он разгуливает с генералами в своём архалуке, в бархатных шароварах, неприбранный и нечёсаный, и размахивает железною дубинкою. Вдобавок, не попадайся ему, оборвёт как раз. Молодой Пушкин не сдерживал в себе порывов негодования и насмешливости, а в кишинёвском обществе было, как и везде, немало таких сторон, над которыми изощрялся ум его. Находчивостью, резкостью возражений и ответов он выводил из терпенья своих противников. Язык мой — враг мой, пословица, ему хорошо знакомая. Сюда относится большая часть анекдотов, которые ходят про него по России. Так, напр., на одном обеде в Кишинёве какой-то солидный господин, охотник до крепких напитков, вздумал уверять, что водка лучшее лекарство на свете и что ею можно вылечиться даже от горячки. «Позвольте усумниться»,— заметил Пушкин. Господин обиделся и назвал его молокососом.«Ну, уж если я молокосос,— сказал Пушкин,— то вы, конечно, виносос».И вот уже враг, готовый радоваться всякой ошибке и распускать всякую клевету! Какая-то дама, гордая своими прелестями и многочисленностью поклонников, принудила Пушкина написать ей стихи в альбом. Стихи были написаны, и в них до небес восхвалялась красота её, но внизу, сверх чаяния, к полнейшей досаде и разочарованию, оказалась пометка: 1 Апреля [452]. Подобных случаев, без сомнения, было немало. Кто-то выразился про Пушкина, играя словом бессарабскийс намёком на его физиономию: бес арабский.Иногда поэту приходилось тяжело в обществе, враждебно против него настроенном. В альбоме Онегина есть строфа, в которой выражены эти отношения:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: