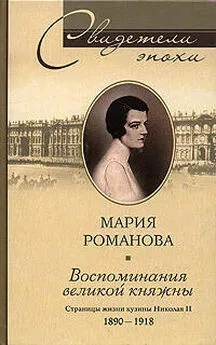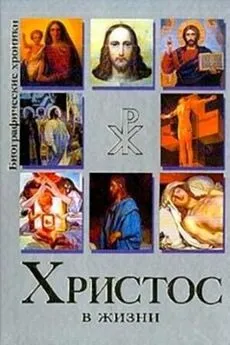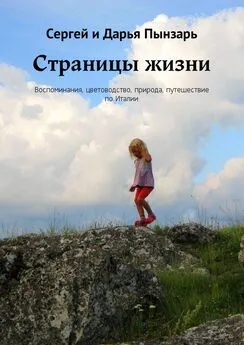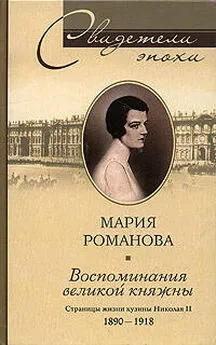Пётр Бартенев - О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников
- Название:О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:5—268—00775—0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Бартенев - О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников краткое содержание
В сборник включены как основные сочинения Бартенева о Пушкине, так и отдельные заметки, разбросанные по страницам «Русского Архива», наиболее значительные из собранных им в разные годы материалов.
Для детей старшего школьного возраста. Составитель, автор вступительной статьи и примечаний Аркадий Моисеевич Гордин
Рецензент — доктор филологических наук Р. В. Иезуитова
lenok555
мной
О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Родившийся 26 мая Пушкин по общему и до сих не совсем оставленному обычаю считался именинником в ближайший ко дню его рождения день того святого, именем которого он назван: 2 июня память Александра, архиепископа Константинопольского.
На придворных балах Пушкину бывало просто скучно. Покойная Л. Д. Шевич передавала нам, как стоя возле неё, полузевая и потягиваясь, он сказал два стиха из старинной песни:
Неволя, неволя, боярский двор.
Стоя наешься, сидя наспишься.
Примечания
«РА». 1889. № 9. С. 112—114, 124.
Из Записной книжки «Русского Архива»
Зимою 1836—1837 г. на одном из петербургских больших вечеров граф Владимир Фёдорович Адлерберг увидел, как стоящий позади Пушкина молодой князь П. В. Долгорукий (впоследствии известный генеалог) кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами. В это время в петербургском обществе уже ходили безымянные письма, рассылаемые к приятелям Пушкина для передачи ему и содержавшие в себе извещение о поступлении Пушкина в так называемое общество рогоносцев [595]. Граф Адлерберг знал о том. Находясь в постоянных дружеских сношениях с Жуковским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслию о сём последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выражал желание проехаться на Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к великому князю Михаилу Павловичу (который тогда был главнокомандующим гвардейского корпуса), и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало бы хоть на время удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали украшением балов. Он подкупал и своим острословием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную графом Адлербергом, не успели привести в исполнение.
(Слышано от покойного графа В. Ф. Адлерберга)
В начале своего долголетнего издательского поприща покойный А. А. Краевский работал у Пушкина в 1836 году и заведывал корректурами пушкинского «Современника». Очень вероятно, что Пушкину на него указал М. П. Погодин, у которого Краевский слушал лекции Русской истории в Московском Университете и потом долго находился с ним в сношениях (как ныне видно из превосходной биографии Погодина, издаваемой Н. П. Барсуковым), а может быть, и сам Пушкин заметил в Петербурге смышлёного и трудолюбивого юношу. Как бы то ни было, Краевский часто видался с Пушкиным в последние годы его жизни. Однажды, собираясь в Москву, где у него жила мать (по фамилии фон-дер Пален, державшая довольно известный пансион для девиц) Краевский зашёл к Пушкину проститься и напомнил ему его обещание дать стихотворение «Московскому Наблюдателю». Пушкин достал свою тетрадь, вырвал из неё листок и подал его Краевскому. Это были стихи «Последняя туча рассеянной бури» [596]. Прочитав его и складывая, чтобы положить в карман, Краевский видит на обороте листка ещё небольшие стихи, но только что он прочёл первый стих: «В Академии наук…» [597] Пушкин мгновенно вырвал у него листок, переписал посылаемые «Московскому Наблюдателю» стихи на отдельной бумаге, отдал Краевскому, а первый листок спрятал. Краевский помнил, что в последнем стихе было: «Оттого, что есть чем сесть».
Через несколько месяцев Краевский приносит Пушкину корректуру «Современника». «Некогда, некогда,— говорит Пушкин,— надобно ехать в публичное заседание Академии. Хотите? Поедем вместе: посмотрите, как президент и вице-президент будут торчать на моей эпиграмме».
(Слышано от А. А. Краевского)
Злосчастная эпиграмма эта, вызванная собственно цензурными преследованиями, имела роковое значение для Пушкина, который столько раз платился и, наконец, поплатился жизнию за неудержимый язык свой. Теперь известна в подробности его житейская обстановка со всею сложною неурядицей денежных и других обстоятельств. Но всё могло бы уладиться: Наталья Николаевна соглашалась переехать с ним на житьё в Михайловское; не приносивший доход «Современник» сам собою прекращался, тем более, что первоначально разрешён был на один 1836 год; деньги для расплаты крайних долгов тоже нашлись бы. Но как было совладать с самим собой? И в прежние годы случалось ему, можно сказать, захлёбываться своим дарованием. Меткое слово, жгучий стих неудержимо вырывались наружу, и сам он потом, в дружеской беседе и в тетради своих заметок, осуждал свою необузданность. В ранней молодости едва не погубила его строфа с описанием ночи на 12 марта 1801 года [598], и только благодаря ходатайству Карамзина, указавшего в облегчение вины его на стих: «падут преступныеудары», удалось спасти Пушкина от заточения в Соловецком монастыре: он отделался ссылкою на Юг, и в Киеве мог легкомысленно отвечать на вопрос приятеля, как он попал туда: «язык до Киева доведёт!» [599]Через четыре года, уже в полном расцвете дарования, уже известный на всём пространстве России, заклеймил он эпиграммою своего начальника, которого внутренне не мог не уважать и про которого потом писал, что ни с кем в России так не легко было служить, как с графом Воронцовым [600]. Следствием была полная ссылка: он отдан под надзор местного дворянского предводителя и соседнего архимандрита [601]… В 1836 году вооружил он против себя представителей целых ведомств…
Примечания
«РА». 1892. № 8. С. 489—491.
Послесловие к публикации «Письмо барона Дельвига к П. А. Осиповой, 1826»
Барон Дельвиг, гостивший у ссыльного Пушкина в 1825 году и принятый как нельзя лучше в селе Тригорском, спешит успокоить П. А. Осипову известием о счастливом обороте в судьбе поэта, который внезапно уехал или скорее был увезён из своего Михайловского с фельдъегерем в Москву, Государь Николай Павлович 8 сентября обласкал его. В Тригорском трепетали за него, так как не было ничего мудрёного, если б он очутился в Сибири.
Примечания
«РА». 1894. № 9. С. 143.
Письмо от 15 сентября 1826 г. в связи с возвращением Пушкина из ссылки и аудиенцией у Николая 18 сентября 1826 г.
Послесловие к публикации «Новонайденное стихотворение А. С. Пушкина. Послание к А. И. Тургеневу»
Эти до сих пор неизвестные стихи Пушкина найдены в бумагах покойного князя Петра Андреевича Вяземского, в его «Остафьевском Архиве», в конверте, на котором рукою князя Павла Петровича Вяземского означено: «Пушкин А. И. Тургеневу — Послание». Хотя стихи сохранились не в подлинной рукописи, а в современном списке, в котором лишь немногие слова (напечатанные здесь курсивом) вписаны Пушкиным, но принадлежность их Александру Сергеевичу не подлежит сомнению: в них как живой изображён Александр Иванович Тургенев, столь известный читателям по отзывам современников и по многим его письмам в «Русском Архиве».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: