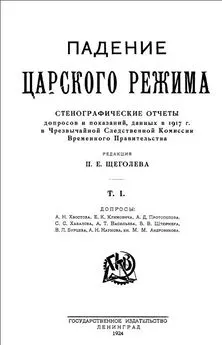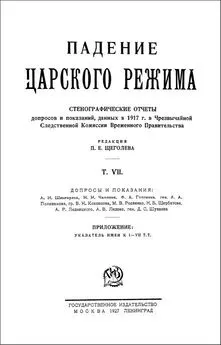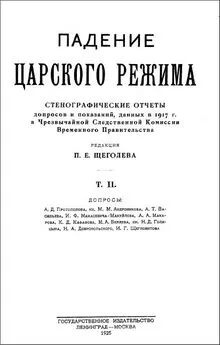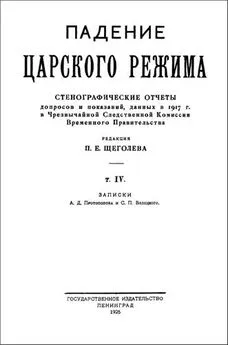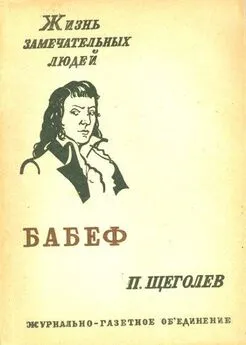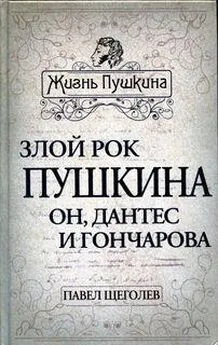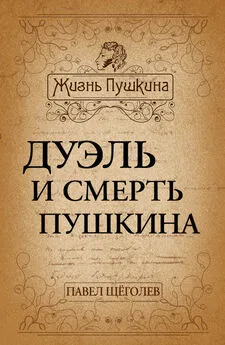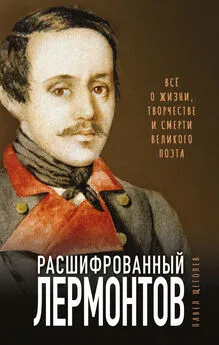Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]
- Название:Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы] краткое содержание
Вступительная статья и примечания Янины Леоновны Левкович.
Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таковы, господин барон, сведения, которые мне удалось собрать о личности поэта; надеюсь, что их достаточно для того, чтобы объяснить Вашему превосходительству, насколько популярность Пушкина и литературные надежды, которые он унёс с собой в могилу, повлияли на выражение общественного мнения по поводу причин его смерти и насколько это обстоятельство оказалось прискорбным по своим последствиям для г. Геккерна. Своего рода национальное самолюбие вызвало участие, относящееся только к поэту, а не к частному лицу; и поклонники, и враги писателя — все единодушно жалеют его как жертву несчастья, порождённого столь же недоброжелательством, сколь самым непостижимым и неосмотрительным легкомыслием.
Точность, с которой я пытался изложить эти детали, их подлинность, за которую, мне кажется, я могу поручиться, — всё это заставляет меня желать, чтобы чтение настоящего письма представило некоторый интерес и заслужило внимание Вашего превосходительства.
Имею честь быть Вашего превосходительства покорнейший слуга.
Геверс
Пользуюсь отъездом английского курьера, чтобы доставить это письмо Вашему превосходительству.
Прилагаемая немецкая газета даёт в целом представление о приговоре, вынесенном по делу молодого Геккерна». ( Врем. ПК. 1971. Л., 1973. С. 14—16). [Возврат к комментарию {285} ]
339
дед… по отцу… Гогенлоэ ошибается. Родство Пушкина с Ганнибалом шло по материнской линии.
340
Уступая настояниям Карамзина… Гогенлоэ что-то путает. Карамзин ходатайствовал за Пушкина перед высылкой его из Петербурга. После вступления на престол Николая I Карамзин отошёл от двора. Умер он 22 мая 1826 г., а Пушкин был привезён с фельдъегерем из Михайловского в Москву 8 сентября.
341
под влиянием… государя. См. примеч. на с. 497 наст. изд. {138}
342
Позднее дневник А. Н. Вульфа был напечатан отдельным изданием: Вульф А. Н. Дневники: Любовный быт пушкинской эпохи. М., 1929.
343
Предположение Щёголева не может быть принято. Известно только одно свидание Н. Н. Пушкиной с Дантесом на квартире И. Полетики 2 ноября 1936 г. (см. выше, с. 469 {71} ). Попытка Щёголева подтвердить рассказ Трубецкого тем, что «слухи о возможном браке Дантеса… распространились ещё до 4 ноября», опровергнута обращением к автографу письма О. С. Павлищевой (см. выше, с. 477 {90} ). Это подтверждает и письмо Е. А. и С. Н. Карамзиных, которые узнали о сватовстве Дантеса только в середине ноября (см. с. 478 {91} ).
344
Запись Жуковского прочитана неверно. Вместо «неизвестное» следует читать «незнание»(см. выше, с. 520 {293} ).
345
Верную оценку воспоминаниям Трубецкого дала А. Ахматова: «Щёголев недооценил мемуары Трубецкого, — пишет она. — Всё, что там сообщено, говорит не Трубецкой, а сам Дантес (и отчасти Полетика, что всё равно. <...> Только от самого Дантеса Трубецкой узнал, что Пушкин дрался не за жену, а за свояченицу; это должно было обелить „бедного Жоржа“ и втоптать в грязь Пушкина, обесчестившего порученную ему матерью молодую девушку, <...>
Всё, что диктует Трубецкой в Павловске на даче, — голос Дантеса, подкреплённый одесскими воспоминаниями Полетики. Трубецкой ни Пушкина, ни его писем, ни сочинений о нём не читал; он по серости своей свято поверил фольклорной истории с поцелуем, углём, лампой, свечкой… усами. Дантес казался ему идеалом остроумия, изящества, умения вести себя с женщинами…» ( Ахматова. С. 138). О слухах или «сплетнях», порочащих Пушкина, пишет в своих воспоминаниях А. О. Россет (см. наст. изд., с. 363 {63} ). Сплетни эти достигли и близких Пушкину людей. Их повторяет О. С. Павлищева (см. с. 60 наст. изд. [См. 1-ую часть книги, 4 (1-я половина). — Прим. lenok555 ]) и С. Н. Карамзина (см. с. 486 наст. изд. {111} ).
346
Воспоминания А. П. Араповой крайне тенденциозны: стремясь оправдать мать, она всячески чернит поэта. В поток порочащих Пушкина измышлений включается и рассказ старой няньки. Свидетельство о нежелании поэта проститься с Александриной опровергается воспоминаниями Данзаса: «Поутру на другой день <���после дуэли. — Я. Л. >, 28 января, боли несколько уменьшились. Пушкин пожелал видеть жену, детей и свояченицу свою Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься» ( П. в восп. 1974. Т. 2. С. 331). Правда, Данзас не присутствовал при прощании Пушкина с семейством, а другие мемуаристы вспоминают только, что «детей приносили полусонных» (с. 161 наст. изд. [См. «Документы и материалы», I, 2, 1 (§ 33). — Прим. lenok555 ]), но приносила именно Александрина. Её муж барон Г. Фризенгоф писал (со слов самой Александрины) Араповой: «После катастрофы Александра Николаевна видела Пушкина только раз, когда привела ему детей, которых он хотел видеть перед смертью» (Красная нива. 1929. № 24. С. 1). [Возврат к комментарию {6} ]
347
Воспоминания Е. А. Долгоруковой (урожд. Малиновской) о предсмертных днях Пушкина ( РА. 1908. Кн. 3. С. 295; 1912. Кн. 3. С. 87) не подтверждаются (см.: П. в восп. 1974. Т. 2. С. 415).
348
Щёголев неправильно воспроизводит эту надпись. Правильно: «Александру Сергеичу Пушкину».
349
не пользовался отношениями… Существует и другое свидетельство. В воспоминаниях Т. О. Немировской-Ситниковой (1867—1949) есть рассказ, записанный ею со слов Ольги Львовны Оборской (1844— 1920), дочери Льва Сергеевича Пушкина, племянницы поэта: «Царь Александр I, — пишет она, — оригинально платил Нарышкину за любовь к себе его жены. Нарышкин приносил царю очень красивую книгу в переплёте. Царь, развернув книгу, находил там чек в несколько сот тысяч, будто на издание повести, и подписывал этот чек. Но в последний раз, очевидно, часто очень и много просил Нарышкин, царь сказал: „Издание этой повести прекращается“». По словам Т. О. Немировской-Ситниковой, О. Л. Оборская слышала этот рассказ от дочери поэта Марии Александровны Пушкиной-Гартунг (1832—1919), которая «была фрейлиной при дворе императрицы Александры Фёдоровны и знала все придворные романы и интриги, бывшие и раньше и настоящие» (Воспоминания арзамасской учительницы Немировской-Ситниковой находятся в Горьковском литературном музее. Цитирую по статье: Яшин. Хроника. № 8. С. 165). Рассказ М. А. Пушкиной — скорее всего, анекдот, но знали его, по-видимому, гораздо раньше, чем М. А. Пушкина появилась на свет. Вполне вероятно, что знал его и Пушкин, живо интересовавшийся придворными анекдотами и отводивший им немалое место в своём дневнике. Известен и другой способ уплаты Нарышкину за бесчестие: он получил рескрипт Александра I и «при сём 300 тысяч рублей» (Русские портреты XVIII и XIX столетия. Спб., 1907. Т. 3. Вып. 1. № 35. М. А. Нарышкина).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/1078686/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie.webp)