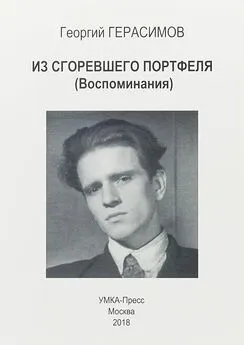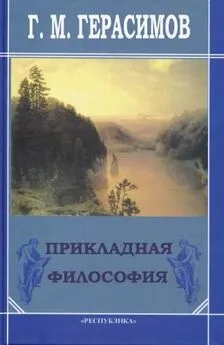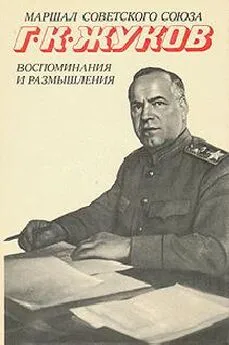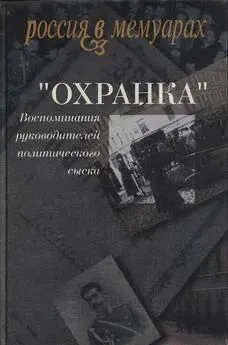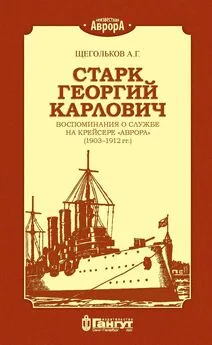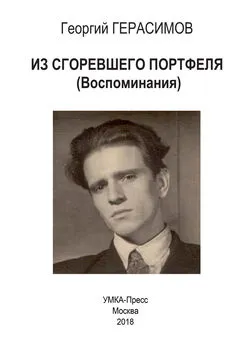Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)
- Название:Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) краткое содержание
Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А вот следовавший за нами курс – сила! Не говоря уж о самом Михаиле Ульянове, – Михаил Дадыко, Николай Тимофеев – в Вахтанговском, Вилька Вейнгер (фамилия, видать не подошла, кончал в пятьдесят первом) – думаю, самый из них талантливый, как я слышал, отыграл он много лет в Иркутске, Народного республики получил, восторженные отзывы о его игре не раз доходили до меня... Весь тот, после нас, курс – нечто было невообразимое – вместо самостоятельных отрывков они сами инсценировали и сыграли «Двух капитанов» по Каверину! Миша Ульянов играл Саню Григорьева, Вейнгер – <���Кораблева>. Это был настоящий, профессиональный, волнующий спектакль. Самостоятельный! Весь курс был занят, все были на высоте. Такого в студии еще не случалось. Сами строили декорации, сами гримировались. Готовый молодой театр. Жаль, что время еще не их было. Они кончили в пятьдесят первом, меня уже в студии не было, но слухи доходили. Тогда в театрах страшный кризис начался, зрители не ходили, дотаций не давали... Не до открытия новых театров. Курсу, которым руководил Юрий Любимов, повезло, они сумели стать «Театром на Таганке», но это случилось уже в годы оттепели...
Из первокурсников, когда я уже был на третьем, запомнился только Ролка Быков, как его тогда называли. Теперешний Ролан Быков. С одной из его сокурсниц у меня намечался «роман», и я немного возился с младшими, даже помогал им что-то ставить, так что, с большой натяжкой, правда, имею числить себя в «учителях» теперешнего народного артиста и депутата... Как-то недавно при встрече напомнил о сем эпизоде Ролану, он не отказался. Посмеялись. Больше сорока лет минуло.
Но возвратимся в студию. Уже на третий курс, ставший для меня в Вахтанговском – последним. Начинался курс очень хорошо. Взял меня к себе в науку Владимир Иванович Москвин, как считалось, лучший педагог студии, все стремились к нему попасть, и было большой удачей, когда он кого-то брал. Тем более – сам. Репетировали мы инсценированный рассказ Горького «Супруги Орловы». Герой-сапожник, его жена, его пьяный быт. Неврастеник. Выжимал из меня Владимир Иванович все, что мог. Только я не многое мог. Наигрывать, нажимать – не разрешалось, сам Гришка мне не очень импонировал, но ведь не оправдать надежд Владимира Ивановича было невозможно. Перечитал трилогию, «Коновалова», другие рассказы, залез и в «Фому Гордеева», и в «Матвея Кожемякина». Все мне было ясно и понятно: и время, и образ, и сверхзадача... А искра не высекалась... Репетируем мы как-то с Галей Серовой в очередной раз. Москвин сидит хмурый, сопит. Вдруг выскочил на сцену и закатил мне оплеуху. В полном смысле слова – дал по шее. Я озлился, обиделся, чуть слезы не брызнули: за что? А он уже кричит из зала: давай! Давай текст! И пошло! Именно то состояние душевное, какое никак не давалось мне. «Запомнил? – спрашивает. – Не запомнишь, снова наподдам». Непедагогично, скажете? Еще как педагогично! Я теперь, как только входил в выгородку: колченогий стол, лохань, табурет с сапожницким инструментом – нога, молоток, старый башмак, – так и закипало что-то внутри. И уже ни о тексте, ни оóмизансценах – ни о чем не думаешь, злишься на жену, на то, что саданул молотком по пальцу мимо гвоздя, что вся жизнь такая скверная, тошная. И жену жалко, и себя, и весь мир. Пошлó!
А второй отрывок вел со мной тоже один из любимых мной вахтанговцев Виктор Григорьевич Кольцов: трубач в «Булычеве», герой-любовник в «Нитуш», в «Сирано», стражник Клюква в «Много шума из ничего» – один из моих кумиров. Упросил я его ставить со мной кусок из «Женитьбы Бальзаминова» – девчонки, приглашенные на роли невесты и ее подружки, Дарья Пешкова (та самая, горьковская внучка) и Слава Словатинская, – сначала фыркали: ну какой из тебя Бальзаминов?! Тощий, длинный, никакой флегмы. Но мы с Виктором Григорьевичем решили образ нетрадиционно. Молодой полунищий чиновнишка? Да. Глуп, как пробка? Да. Мечтатель, фантазер, лентяй? Да, да, да! Но только не пассивный, не сам считающий себя олухом царя небесного. Он-то о себе куда более высокого мнения, он-то, пусть потрепанная, бледная, чутошная и без всяких на то прав – копия Жадова и Глумова: тоже ведь выбивается в люди, тоже решил отыскать богатую невесту. И ведь не из глухого городишки парень – из Москвы, было на кого посмотреть, какие там по Кузнецкому фланируют, – львы, сердцееды, мрачные красавцы. Чем таинственнее, тем сильнее обеспечен успех у дам. А что тут все – пародия, что и сам Митя никакой не «лишний человек», и дамы его обыкновенные квочки – дочери купеческие средней руки, так это пусть зритель понимает. Текст сам за себя говорит. Ведь Митю как принято играть? Толстогубенький, щекастый, до того глуп, что и двух слов связать не может... Да как же он, такой, покорит девицу, о «герое» мечтающую? Но ведь, как подать этот текст, что в него вложить! И стали мы делать Бальзаминова, как задумали. И ведь все на образ ложится! Этакий хлыщ, нагловатый, глубокомысленный, этакий почти «демонический». Как тут устоять купеческой курочке? Благоглупости свои: «А что вам больше нравится – зима или лето?» – с таким подтекстом произносит, будто глубочайшие философские вопросы решает. «Что вы, как можно – зима!» Это же обвинение в незнании основ... И начал я в этом Бальзаминове купаться, все мне было ясно в его задачах, сверхзадаче, характере. Здорово получалось. Сами мы мерли от хохота, и Виктор Григорьевич такое подкидывал, что – ай люли! Поверил я в себя. Правда, никому постороннему еще не показывал, но жило в сердце предчувствие успеха... Однако – не судьба. Но об этом несколько ниже. А сейчас еще об одной веселой стороне нашей студенческой жизни – о постоянных розыгрышах, о приключениях, обо всем том, что составляло нашу повседневную, довольно беззаботную жизнь.
Едва успели мы освоиться в студии, как началась одна из самых занимательных «игр» – стоило нам, двум-трем, очутиться где-нибудь на людях, в нашу игру не посвященных, как начинался треп. Не сговариваясь о сюжете, кто-то начинал громко фантазировать о самых немыслимых происшествиях, другой подхватывал, уточнял, словно сам был прекрасно обо всем этом осведомлен, в разговор встревал третий. Сыпались имена-отчества или фамилии очень известных деятелей театра, кино, литературы, якобы к этим приключениям причастных. Конечно, все это привлекало внимание слушателей, задавались уточняющие вопросы, «пускалась сплетня», или, как именовали мы сие действо по-французски, «бляга». Многие легковерные попадались на крючок, и, глядишь, через неделю от кого-нибудь можно было доверительно услышать расцвеченный собственными фантазиями, обросший множеством подробностей наш сюжет. И треп этот заводили мы не только в студии, а порой и на трамвайной площадке, едучи после лекций на спектакль в театр, где уже со второго курса занимали нас в массовках и платили разовые – тридцатку за выход – недурственное подспорье к невеликой студенческой стипендии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: