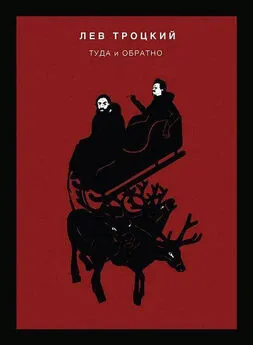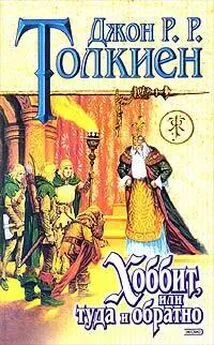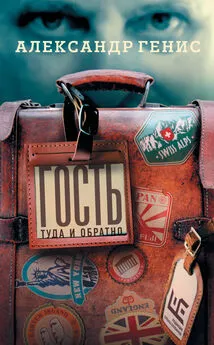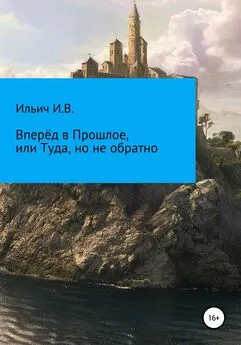Лев Троцкий - Туда и обратно
- Название:Туда и обратно
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Книгократия
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9500361-5-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Троцкий - Туда и обратно краткое содержание
Туда и обратно - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У Шоминских юрт мы выехали на Сосьву. Дорога идет то рекой, то лесом. Дует резкий, пронизывающий ветер, и я лишь с трудом могу делать в тетради свои заметки. Сейчас мы едем открытым местом: между берёзовой рощей и руслом реки. Дорога убийственная. Ветер заносит на наших глазах узкий след, который оставляют за собою наши нарты. Третий олень ежеминутно оступается с набитой колеи. Он тонет в снегу по брюхо и глубже, делает несколько отчаянных прыжков, взбирается снова на дорогу, теснит среднего оленя и сбивает в сторону вожака. Рекой и замёрзшим болотом приходится ехать шагом. В довершение беды захромал наш вожак, – тот самый бык, которому нет равного. Волоча заднюю левую ногу, он честно бежит по ужасной дороге, и только низко опущенная голова и высунутый до земли язык, которым он жадно лижет на бегу снег, свидетельствуют об его чрезмерных усилиях. Дорога сразу опустилась, и мы оказались меж двух снежных стен, аршина в полтора вышиною. Олени сбились в кучу, и казалось, что крайние несут на своих боках среднего. Я заметил, что у вожака передняя нога в крови.
– Я, однако, коновал мало-мало, – объяснил мне Никифор, – кровь пускал ему, когда вы спали.
Он остановил оленей, вынул из-за пояса нож (у нас такие ножи называются финскими), подошел к больному быку, и взяв нож в зубы, долго ощупывал больную ногу.
– Не пойму, что за притча такая, – сказал он недоумевая и стал ковырять ножом повыше копыта. Животное во время операции лежало, поджав ноги, без звука, и затем печально лизало кровь на больной ноге. Пятна крови, резко выделявшиеся на снегу, обозначили место нашей стоянки. Я настоял на том, чтоб в мою кошеву запрягли оленей шоминского остяка , а наши пошли под лёгкие нарты. Бедного хромого вожака привязали сзади. От Шомы мы едем около пяти часов, столько же придется ещё проехать до Оурви, и только там можно будет сменить оленей у богатого остяка, оленевода Семена Пантюй. Согласится ли он, однако, отпустить своих оленей в такой далекий путь? Я рассуждаю об этом с Никифором.
– Может быть придётся, – говорю я ему, – купить у Семена две тройки.
– Ну что же? – отвечает Никифор, – и купим!
Мой способ передвижения производит на него такое же впечатление, какое на меня когда-то производило путешествие Филеаса Фогга . Если помните, он покупал слонов, покупал пароходы, и когда не хватало топлива, бросал деревянную снасть в жерло машины. При мысли о новых затруднениях и тратах Никифор, когда он во хмелю, т. е. почти всегда, приходит в азарт. Он совершенно отождествляет себя со мною, хитро подмигивает мне и говорит:
– Дорога нам в копеечку войдёт… Ну, да нам наплевать… Нам денег не жалко! Быки? Падёт бык – купим нового. Чтоб я быков жалел – никогда: пока терпят – едем. Го – го! Главное дело до места доехать. Правильно я говорю?
– Правильно!
– Никифор не довезёт, никто не довезёт. Мой дядя Михаил Осипович (добрый мужик!) говорит мне: Никифор, ты везёшь этого субъекта? Вези. Бери шесть быков из моего стада – вези. Даром бери. А ефрейтор Сусликов говорит: Везёшь? Вот тебе пять целковых.
– За что? – спрашиваю я Никифора.
– Чтоб вас увёз.
– Будто за это? А ему-то что?
– Ей-Богу за это. Он братьев любит, он за них горой стоит. Потому, будем говорить, за кого вы страдаете? За мир, за бедняков. Вот тебе, говорит, Никифор, пять целковых – вези, благословляю. В мою, говорит, голову вези.
Дорога вступает в лес и сразу становится лучше: деревья охраняют её от заносов. Солнце уж высоко стоит на небе, в лесу тихо, и мне так тепло, что я снимаю гусь и остаюсь в одном полушубке. Шоминский остяк с нашими оленями всё время отстает, и нам приходится его поджидать. Со всех сторон нас окружает сосна. Огромные деревья, без ветвей до самой вершины, ярко жёлтые, прямые как свечи. Кажется, что едешь старым прекрасным парком. Тишина абсолютная. Изредка только снимется с места пара белых куропаток, которых не отличишь от снежных кочек, и улетит глубже в лес. Сосна резко обрывается, дорога круто спускается к реке, мы опрокидываемся, оправляемся, пересекаем Сосьву и снова едем по открытому месту. Только редкие малорослые березки возвышаются над снегом. Должно быть, болотом едем.
– А сколько вёрст мы проехали? – справляюсь я у Никифора.
– Да вёрст 300 надо быть. Только кто его знает? Кто здешние вёрсты мерял? Архангел Михаил, больше никто не мерял… Про наши вёрсты давно сказано: меряла баба клюкой, да махнула рукой… Ну да ничего: дня через три будем на заводах, только бы погода продержалась. А то бывает – ой-ой… Раз меня под Ляпином буран захватил: в трое суток я пять вёрст проехал… Не дай Бог!
Вот и Малые Оурви : три-четыре жалкие юрты, из них только одна жилая… Лет двадцать тому назад они вероятно, были заселены все. Остяки вымирают в ужасающей прогрессии… Вёрст через десять приедем в Большие Оурви . Застанем ли там Семена Пантюя? Дос танем ли у него оленей? На наших ехать дальше нет никакой возможности…
… Неудача! В Оурви мы не застали мужиков: они с оленями стоят в чуме, на расстоянии двух оленьих побежек ; приходится проехать несколько вёрст назад и затем свернуть в сторону. Если б мы остановились в Малых Оурви и разведали там, мы сэкономили бы несколько часов. В настроении близком к отчаянию я дожидался, пока бабы добывали нам одного оленя на смену нашему захромавшему вожаку. Как всюду и везде, оурвинские бабы находились в состоянии похмелья, и, когда я стал разворачивать съестные продукты, они попросили водки. Разговариваю я с ними через Никифора, который с одинаковой свободой говорит по-русски, по-зырянски и на двух остяцких наречиях: верховом и низовом, почти несхожих между собою. Здешние остяки по-русски не говорят ни слова. Впрочем, русские ругательства целиком вошли в остяцкий язык и наряду с государственной водкой составляют наиболее несомненный вклад государственно-русификаторской культуры. Среди тёмных звуков остяцкой речи в местности, где не знают русского слова «здравствуй», вдруг ярким метеором сверкнет удалое отечественное слово, произносимое без всякого акцента, с превосходной отчетливостью.
Время от времени я угощаю остяков и остячек своими папиросами. Они курят их с почтительным презрением. Эти пасти, закалённые спиртом, совершенно нечувствительны к моей жалкой папиросе. Даже Никифор, уважающий все продукты цивилизации, признался, что мои папиросы не заслуживают внимания. «Не в коня овёс», – пояснил он мне свой приговор.
Мы едем в чум. Какая дичь и глушь кругом! Олени бродят по сугробам снега, путаются между деревьями в первобытной чаще, – и я решительно недоумеваю, как ямщик определяет дорогу. У него имеется для этого какое-то особое чувство, как и у этих оленей, которые удивительнейшим образом лавируют своими рогами в чаще сосновых и еловых ветвей. У нового вожака, которого нам дали в Оурви, огромные ветвистые рога, не менее пяти-шести четвертей длиною. Дорога на каждом шагу перегорожена ветвями, и кажется, что олень вот-вот запутается в них своими рогами. Но он в самую последнюю минуту делает еле заметное движение головой, – и ни одна игла не дрогнет на ветке от его прикосновения. Я долго следил неотрывающимся взглядом за этими манёврами, и они казались мне бесконечно таинственными, какими кажутся всякие проявления инстинкта нашему резонирующему разуму.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: