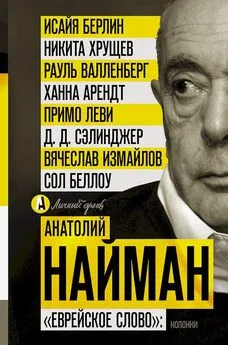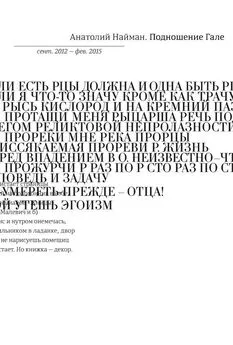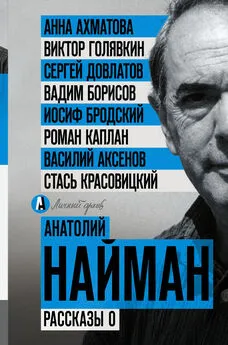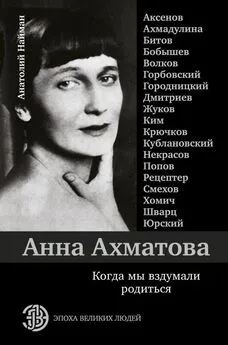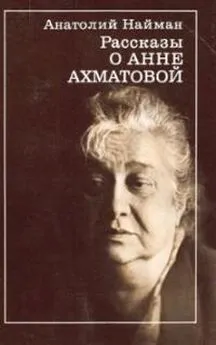Анатолий Найман - «Еврейское слово»: колонки
- Название:«Еврейское слово»: колонки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-105714-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Найман - «Еврейское слово»: колонки краткое содержание
«Еврейское слово»: колонки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другое дело, что создается впечатление, что тех прежних времен насилие и страдания давали действующим лицам ощущать происходящее как их собственную, конкретную, единичную трагедию. Но XX век узаконил ее как норму, лишив тем самым человеческую судьбу трагичности. Ну задохнувшиеся от иприта, ну пущенные в расход революционными матросиками, ну руины Ковентри, ну Анна Франк, ну Валленберг, ну Руанда, Кампучия, Соловки, гестапо, НКВД – этого так много, это обыденно, одна мука не превосходит другую. Это не убийца собственных детей Медея и не Раскольников, наказанный собственным преступлением еще до правосудия, – уникальные, помеченные знаком свыше души.
Мне приходит в голову, что герои драматургии XX века и не могут быть единичными людьми. Слишком могущественна масса, в которой они растворены, слишком сильно поле ее влияния. Не могут и страны, государства, народы, патриотическими атомами которых нас призывают быть. Слишком они аморфны, неопределенны, зачастую случайно собраны в искусственный конгломерат. А вот города прямо-таки напрашиваются на эту роль. Царство Эдипа состояло из нескольких деревень – неужели современный мегаполис не вровень этим владениям? Если бы удалось написать пьесу, единственным персонажем которой стал, к примеру, Берлин, зритель столкнулся бы с судьбой, не уступающей античным. Город, еще отсвечивающий былой славой в начале, раздавленный поражением в Первой мировой, затем декаденствующий, затем сбивающийся в погромные банды и факельные шествия, диктующий миру свою волю, окончательно поверженный. Жалко возрождающийся, придушенный неодолимой стеной, дождавшийся ее падения. Или Ленинград, поправший Петербург. Или Париж. Или Гавана. Или, или, или… Впрочем, хотя с городами-протагонистами этого жанра искусства мы не встречались, прекрасные образцы в литературе хорошо известны, взять ту же недавнюю «Биографию Лондона» Питера Акройда, не говоря о книгах-«городах» Диккенса, Бальзака, Гоголя и многих других.
А появилась у меня эта мысль, это представление о таком герое в такого рода драматической истории, когда я стал читать книгу Мартина Гилберта «Иерусалим, история города в XX веке». Сэр Мартин – известный историк, наделенный к тому же литературным даром. Я не выдумал, что города имеют судьбы, сходные с людскими, книга Гилберта читается как роман. Иерусалим предстает в начале провинциальным городком, похожим на еврейского мальчика из черты оседлости, заброшенного на экзотический Восток, мало чем отличающийся от Украины. (На арабского тоже, просто я не знаю, с какой глушью, из которой такой мальчик мог быть родом, сравнить Палестину.) Сюжет запускается на переломе эпох: новый мир спроваживает старый в дом инвалидов и приступает к управлению планетой, сразу давая понять, что повседневность отныне будет безжалостной, а войны мировыми.
Взрывная волна великих сражений доходит до Палестины приглушенно. Положение, как и подобает провинции, определяют ближайшая к району Турция и периферийные германские власти. До декабря 1917-го. Тут в страну вторгается Британия, в Иерусалим входят войска генерала Алленби. Меняется дух, меняются приоритеты. И одновременно начинает меняться, достаточно стремительно, население – его численность и состав: на авансцену выходит сионизм. В 1921 году в Иерусалим прибыл новый британский министр по делам колоний Черчилль. Вскоре Конгресс палестинских арабов вручил ему многостраничный меморандум, в одной фразе которого, с моей точки зрения, были сформулированы существо, ситуация и курс развития всех будущих событий, по крайней мере, на век вперед. Судя по всему, и дальше. Фраза была: «Араб добросердечен и благороден, однако мстителен».
У Достоевского в «Идиоте» второстепенный персонаж поручик Келлер постоянно повторяет: «Я, как благородный человек…». Объявлять о своем благородстве самому довольно странно, автор над его самохвальством подтрунивает. Но арабская самооценка звучит с такой наивной верой в ее истинность, что не до шуток. Практический вывод из нее недвусмыслен: вы (евреи, англичане, американцы) будете делать то и это, сажать сады и открывать университеты, усовершенствовать медицину и технику, строить город и государство, а мы – мстить. То есть все это разрушать. Занятие, согласитесь, которого хватит до конца времен.
Как всякий стоящий роман, история Иерусалима XX века идет к разрешительной кульминации. Атмосфера становится все более душной, обстановка все накаленнее, пространство все теснее, все больше проливается крови… И – приходит 5 июня 1967 года. Поддастся или не поддастся Хуссейн на уговоры Насера выступить заодно с ним? Поддается. Руки у евреев развязаны. Препятствия падают одно за другим. Прорыв к Стене Плача выглядит как освобождение родительского дома, на два десятилетия захваченного врагом. Она сама – как возлюбленная, освобожденная из темничного плена. Решимость, поступки, поведение действующих лиц, военная диспозиция, сами городские кварталы были совсем иными, нежели во время боев 1948 года. Тогда задача была не пропасть, сейчас – победить. Страницы, посвященные состоянию людей, достигших Стены, плакавших, молившихся, певших, тянувшихся к священным камням, обрушивают на читателя экстаз, восторг, трепет, с которым они переживали момент.
Оставшаяся треть века, казалось бы, должна прийтись на эпилог, спокойное подведение итогов. Но это Иерусалим, здесь эпилог не предусмотрен. Каждый следующий день – завязка новых коллизий, угроз, надежд, сюрпризов. Конца нет.
23–29 октября
В мае 1989 года я, уже 50-летний, в первый раз увидел Париж. Упоминаю возраст потому, что к этому времени человек знает о Париже все, что можно знать. Все прочел, альбомы с репродукциями изучил, все фильмы посмотрел, все песенки, включая «Сэ си бон», прослушал и даже может произнести строчку Виллона «Где прошлогодний снег?» – «У э ле неж д’антан?». Выяснилось, что не совсем всё. Выяснилось, что знание не было пронизано неким парижским электричеством, которое походку, улыбку, листву бульваров, рыбешку, трепещущую на удочке, реку делает из застывших впечатлений – жизнью. У Хэмингуэя в «Празднике» есть эпизод. Американец провел отпуск в Париже, утром пароход домой, и накануне, в ночном кафе, клюкнувший побольше окружающих его парижан, объясниться с которыми на их франсэ ему уже по силам, он ясно понимает, что а духа-то города так и не уловил. Пошатываясь, идет к отелю по пустой рассветной улочке, он и навстречу ему такой же одинокий прохожий, газета под мышкой. Поравнявшись, тот ударяет его газетой по лбу – а в ней кусок водопроводной трубы, и, теряя сознание, американец успевает этот скрывавшийся от него дух постичь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: