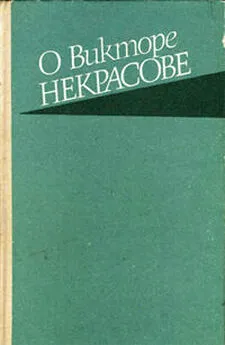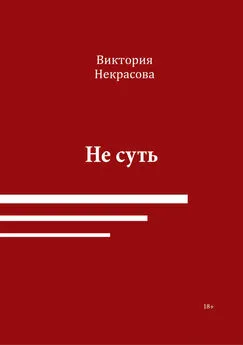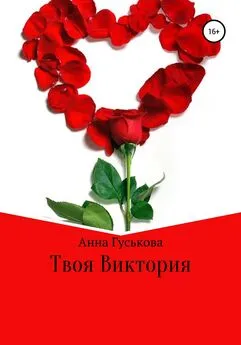Анна Берзер - О Викторе Некрасове
- Название:О Викторе Некрасове
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Украïнський письменник
- Год:1992
- Город:Киев
- ISBN:5-333-00666-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Берзер - О Викторе Некрасове краткое содержание
В 1974 г. В. Некрасов вынужден был покинуть Родину. Умер в Париже.
В книге представлены воспоминания о писателе его друзей, а также портретные зарисовки, принадлежащие перу самого В. Некрасова.
Рассчитана на широкий круг читателей.»
[издательство «Украïнський письменник», 1992 г.]
О Викторе Некрасове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сцена состоит из диалога с короткими ремарками. В ней скрещиваются не две точки зрения на бой, а два подхода к войне, к людям. Если угодно, две жизненные философии.
Некрасов первым в нашей литературе сказал о нравственной ответственности командира, посылающего бойцов на смерть, о цене крови. Потом писатели будут развивать, варьировать эту тему, обнаруживая всё новые ее грани. Особенно близка она станет В. Быкову и Д. Гусарову, Г. Бакланову и Ю. Бондареву.
Атака, проведенная по приказу Абросимова, захлебнулась перед немецкими окопами.
Ни разу в этом отрывке — в описании атаки — не упоминается имя Абросимова. Словно нет начальника штаба, погнавшего батальон на убой, словно не он причина гибели двадцати шести человек.
Лишь потом, когда будут хоронить убитых, это имя всплывет.
Но не сказанное прежде, а все скрупулезно собранные подробности и две отрешенные фразы — каждая с абзаца: «И это все. Мы уходим», — вопиют против Абросимова.
Нравственного обвинения недостаточно. Абросимов отвечает перед офицерским судом чести. Изобличение кладет моментальный конец его карьере. Он не оставляет по себе ни следа, ни духа. «Больше об Абросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами».
Абросимов чужд, чужероден. Он, как установил суд чести, конечно же, трус. У него — ни друзей, ни корней, ни корешей. С глаз долой, из сердца — вон. Память поспешно стирает имя…
С первых страниц повести, слегка трансформируясь, ведется мотив: «На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится». Незнание — натуральное и всеобщее состояние. Не знают отступающие, и не знают идущие к передовой.
Керженцев, Игорь, Фарбер, Ширяев недостаточно осведомлены и не всё могут додумать до конца. Однако не выглядят несмышлеными, ограниченными, нисколько не выглядят. Они нравственно, человечески значительны. Даже в тех случаях, когда повторяют универсальную формулу: «А он думает за всех», когда пребывают в неведении, или попадают впросак, или терпят неудачу.
Война вступила в противоречие с принципом «он думает за всех» и нередко опровергала его на разных ступеньках армейской лестницы. Прежде всего, когда несостоятельность деятелей, скажем, абросимовского типа представала с плачевной очевидностью боевого поражения, оплачивалась неоправданными потоками крови.
Керженцев ничуть не считает, будто «мысль изреченная есть ложь». Просто ему не всегда хочется «изрекать», да и не всегда имеется для этого возможность — обстоятельства не располагают к «изречениям». А сверх того — недостаток знаний, сведений. Такой недостаток, как само собой разумеющееся, вытекает для него из фронтовой ситуации. Но Керженцев еще не догадывается, что он в свою очередь может влиять — и не лучшим образом — на эту ситуацию. Она — в какой-то мере — сложилась в атмосфере неведения, в которой сформировались Керженцев, Игорь, Фарбер, Ширяев, Валега. Война усугубила эту атмосферу, сообщив ей некую объективность: на фронте многое окружено тайной.
Зато после войны порядок вещей в корне изменится. В это верили, на это надеялись. Для людей — осознанно или подсознательно — борьба с фашизмом выливалась в борьбу с любым злом, любой кривдой и несправедливостью.
Этой святой уверенностью жили люди, победившие опаснейшего врага.
Некрасов раньше и проницательнее других писателей раскрыл духовное достояние защитников Сталинграда, увидев в них победителей Берлина. Дух победительности пронизывал повесть, кончавшуюся сценой на Мамаевом кургане, где совсем недавно проходила передовая. Теперь Керженцев с приятелями пьют здесь за Киев, за Берлин «и еще за что-то, не помню уже за что», а мимо длинной зеленой вереницей плетутся пленные, и молоденький сержант-конвоир подмигивает: «Экскурсантов веду. Волгу посмотреть хотят…» Эта повесть свободна от казенного оптимизма, и герои ее не чувствуют себя пешками в руках всеведущего стратега. Они утвердились в гордом сознании своего достоинства, своего обновляющегося знания жизни. С таким чувством вернулись с войны солдаты, с таким чувством Некрасов писал повесть о Сталинграде.
Но это чувство не согласовалось с чувствами и намерениями Сталина вообще, с его воззрениями на литературу в особенности. Однако на первых порах фронтовая проза не подвергалась нападкам. «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой, «Звезда» Эм. Казакевича даже удостоились Сталинской премии. Такая благодать продлится недолго. Уже в 1948 году Эм. Казакевичу «выдадут» за повесть «Двое в степи», потом — за «Сердце друга».
Всего труднее, всего драматичнее сложится судьба Виктора Некрасова. Состояние внутренней независимости, изначально присущее ему, подкреплялось фронтовым опытом. Он продолжал писать так, как полагал нужным, не сообразуясь с указаниями и кампаниями. Из-под его пера вышла первая повесть о разочарованиях и трудностях, подкарауливавших демобилизованных фронтовиков, — «В родном городе». Критика отнеслась к повести неодобрительно, сама тема вошла в разряд нежелательных, и когда уже в 80-е годы увидели свет «Встречи на Сретенке», автору повести В. Кондратьеву тоже досталось. (В пору, когда имя Некрасова находилось под запретом, В. Кондратьев и В. Быков пользовались любой возможностью, чтобы сказать доброе слово о писателе, которому они стольким обязаны).
«В окопах Сталинграда» — главная книга Виктора Некрасова. Но и в других повестях, в военных рассказах, путевых очерках, в полемических статьях об искусстве он также нравственно определен, последовательно уступчив. Почти все его вещи печатались в «старом» «Новом мире», и это усиливало неприязнь критиков-охранителей. Не пришлись им по вкусу и некрасовские путевые записки, где автор пренебрегал традиционными клише и стандартным изобличением «их нравов», предпочитая писать правду об увиденном.
Среди откликов-поклёпов, невесть в чём обвинявших В. Некрасова, выделялась развязная статья «Турист с тросточкой», напечатанная в «Известиях». Хотя статья шла без подписи, как редакционная, автор ее известен. В свойственной ему манере он ратует сейчас за перестройку, не испытывая, видимо, потребности покаяться. По-моему, эта разновидность борцов за обновление — самая для него опасная.
Виктор Некрасов относился к тем людям, кому не пришлось бы перестраиваться, чтобы быть порядочным. Иным он быть просто не умел. Потому, восставая против любой несправедливости, защищал незаслуженно обиженных. Так, многие годы устно и письменно пытался объяснить всевозможным начальникам самобытное творчество киевских художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, подвергавшихся гонениям вплоть до наших дней.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: