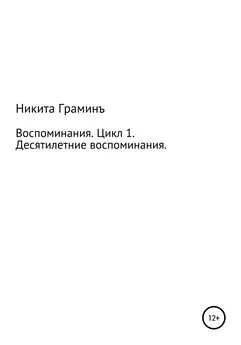Вениамин Додин - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Воспоминания краткое содержание
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
* * *
…Прозрачным солнечным днём Марфенька, я и Арво пришли в Вестфальский Мюнстер. И, проплутав по нему самую малость, остановились, усталые и притихшие, на площади перед вратами церкви Святого Ламберта… Куранты её пробили полдень — тотчас труба протрубила громко и жалобно, яростный грай размозжил тишину… Они глаза подняли: там, вверху, над часами, где всполошенные метались вороны в мёртвом небе — чистом и светлом, на длинных консолях–крюках висели, мерно раскачиваясь, скрипели огромные чёрные клетки…
…Не было никакого вечного мира. Небыло его и на этой земле — нигде и никогда не было. Была смерть. Вцепившиеся друг в друга армии католиков и протестантов разоряли собственную страну. Орды насильников — своих и чужих — уничтожали, злобствуя и глумясь, народы Европы, совсем немного оставляя на съедение голоду, чуме, огню церковных костров и повсюду бушующих пожаров в разрушенных городах и испепелённых селениях… Пал после долгой осады Магдебург… Озверевшие солдаты Католической лиги ворвались в город…
…Чудовищно, ужасно, возмутительно/…/ зрелище представившееся человечеству /…/ Чудом оставшиеся живыми выползали из под груд зловонных трупов; дети, истошно воя, искали родителей; младенцы сосали грудь мёртвых матерей /…/ Чтобы очистить улицы /…/ выбросили в Эльбу десятки тысяч трупов /…/ Неизмеримо большее число живых и мёртвых сгорело в огне /…/ Это писал полтора столетия спустя Шиллер в своей Истории Тридцатилетней войны. Писал, словно живой свидетель свершившегося зла. Очевидец, живой свидетель зла в Магдебурге поэт Грифтиус в сонете 1636 года Слёзы отечества кричал: Мы теперь полностью и даже более чем полностью обложены армиями /…/ Наглые орды, беснующаяся труба, ж и р н ы й о т к р о в и м е ч, гремящая картечь пожрали наш пот, наш труд и наши припасы /…/ Башни стоят в огне. Церковь переобращена /…/ Ратуша повергнута в ужас /…/Сильные зарублены /…/ Девы опозорены /…/ И куда ни кинешь взгляд, повсюду огонь, чума — смерть повсюду, пронизывающая душу и ум …
Уже минуло тридцать шесть лет с тех пор как наши реки, о т я ж е л е н ы е множеством трупов текут замедленно… Но я ещё пол века назад умалчиваю о том что хуже смерти, что ужаснее чумы, пожаров и голода — что теперь с о к р о в и щ а души разграблены…
Мама ещё ко времени нашей встречи конца 1953 года в ссылочном зимовье моём на Енисейской Ишимбе не сомневалась: Арво пол века назад не так просто выбрал маршрут их путешествия в Землю Предков именно через немецкие земли, — через Вестфалию, и её сердце — Мюнстер. У него цель была: разрушить во что бы то ни стало в любимой сестре её слишком безоглядную, беспредельную даже веру в Божественную миссию Человека, в заповеди Господни, во вселенскую любовь, заложенную в души людские при их сотворении, без чего бессмысленно само существование человечества… Или вера в Бога. Арво подозревал, что, ударившись однажды о практику жизни, она может сломаться и погибнуть как личность. И план свой задумал он по принципу клин клином, разбив беспредметную веру сестры напрямую — о железные клетки собора Святого Ламберта… Умница, он всё учёл — и впечатлительность её, и мгновенный отзыв её на чужую боль. Но всей силы характера сестры знать он ещё не мог. Выведенная волею Бабушки Анны Розы и духом августейшей Анны Кириловны из под опеки семьи, она познала величайшее счастье обретения ЗНАНИЙ. И, — через знания, — теперь уже совершенно непоколебимую уверенность в оптимальности выбора своего: служению точно определённым идеалам не сословной гипотетикой, а напрямую и самым действенным образом — практической ОПЕРАЦИОННОЙ медициной. Арво и Стаси Фанни не виделись очень давно — с младенчества почти что! Она за это время сумела докопаться до фактической истории возникновения вероучения Меннонитов, ставшего для неё не просто Законом Божьим, а программой земной жизни. Но сама история эта, — страшная, кровавая, трагическая, — не только не разубедила её в точности выбора. Она укрепила и без того сложившуюся уверенность в необходимости не смотря ни на что делать избранное ею дело. ДЕЛАТЬ ДЕЛО! Хоть что–то делать для окружающих её людей. И если зло так велико и всесильно, его тем более не следует усиливать и расширять АКТИВНЫМ бездействием. Н е п р о т и в л е н и е м ему. Эта еретическая относительно веры отца её программа жизни могла бы показаться блажью молодой девушки, только–только входящей в мир за пределами общины. Даже после того, как программа эта вписана была в мамину Подённую Книгу. Но…годы шли. А программа эта неукоснительно исполняется. И, вписанная на страницы её дневников заставила церберов навалившейся на Россию власти большевиков использовать силу против моих мамы и отца. Многочисленными арестами пытаясь сломить их волю к действиям против зла. Но как Арво когда то, они не учитывали характера Стаси Фанни, и, конечно же, Залмана. И если уж в начале жизни не сломали Стаси Фанни железные клетки церкви Святого Ламберта, какие клетки могли сломать её после кровавых штормов Пяти Войн, к которым приговорила её удивительная судьба.
…Записи, оставленные мамой, поразительно откровенны и, развёрнутые, казалось бы, в ретроспективу, пророчески. О них с самого начала века знало множество соискателей. В основном, соискателей самих бумаг. После событий 1904–1906 годов ей много писали. Занятая круглосуточно, устававшая до обмороков, она не позволяла себе не ответить корреспондентам. Пока… Пока ей не рассказали друзья, что письма её стали превращаться в предмет купли–продажи. Но… но и после этого она продолжала отвечать пишущем ей. И доверять бумаге сокровенные мысли свои.
Двадцатый век только начинался. Это потом, позднее, много позднее Давид Самойлов скажет (повторюсь), искушенный особенностями страшного столетия:
В двадцатом веке дневники
не пишутся, и ни строки
потомкам не оставят.
Наш век ни спор, ни разговор,
ни заговор, ни оговор
записывать не станет.
Он столько видел, этот век, —
Сметённых вер, снесённых вех,
Не вставших Ванек–встанек,
Что неохота вспоминать.
Он их в свою тетрадь
Записывать не станет.
… … … … … .
А мама записывала. Сперва, узнав о прагматизме части своих корреспондентов, а позднее, после первых с декабря 1917 года арестов, мама, перед поездкою в Германию осенью 1923 года переправила бумаги свои Бабушке в Речицу на Днепре, где Анна Роза гостила (скрывалась!) тогда у родных третьего её давно покойного мужа Беньямина Окунь. Через четверть века, в 1953 году, по возвращении мамы и отца в Москву после экспедиции–изгнании на «PASTEUR», бумаги эти вернула им из своих зарубежных архивов–схронов сама бессмертная Бабушка…
Об этом приезде–возвращении родителей моих интересанты узнали тотчас. Будто кем–то предупреждённые. Сразу же поинтересовались мамины бумагами. Началось паломничество любознатцев в Разгуляевскую нашу коммуналку. Скорее всего, безвинно–виновным в начавшемся этом потоке любопытствовавших был милейший Ираклий Луарсабович Андроников. Бывший кназ, ныне трудящийся Москвы…Ещё в сороковых годах, точнее, с 1936 по 1940–й, регулярно навещал Бабушку. И они — молодой лермонтовед и Старая ведьма (это он так ласково говорил о ней в её отсутствие) — могли часами уточнять некие детали взаимоотношений дяди её Абеля Розенфельда, — опекуна, — с его не ординарными клиентами в эпоху интересов растущего историка–учёного. Но ведь и она, повзрослев, и, в дело войдя, была непременным и активнейшим фигурантом того же времени. Потому гостеваниям Ираклия Луарсабовича в те четыре года конца не было. Исчезнув на четырнадцать лет путешествия моего Вверх по Красной реке — с того же 1940 по 1954 годы — Андронников вновь стал посещать вернувшихся. И с собою привёл поминавшийся шлейф соискателей теперь уже и маминого достояния. Сперва, японистов, по понятным причинам. Затем, спецов по войне. Наконец, германистов. А позднее чуть — вовсе ребят дошлейших, кропавших диссертационные сериалы под крышей Совета при комитете по делам религий. То были личности занимательнейшие и очень разные. Одно их объединяло — хватка! Вот уж хватали они всё, на что ложился глаз, и на всё что плохо ли, хорошо ли лежало. Лежало хорошо и плохо всё — маме было не до рукописей, не до рекомендантов неизменно милейшего Ираклия Луарсабовича: она в эти остающиеся у неё месяцы пыталась вырвать меня из ссылки. И бумаги исчезали с поразительной быстротою и бесследно. Правда, какая–то часть их обнаруживалась…чуть позднее…в выходивших книжках. В том числе в популярных. И даже в наукообразных монографиях! Авторы их, сговорясь как будто, забывали или УЖЕ нужным не считая, упомянуть имя той, которую цитировали. Так, рывшаяся в маминых бумагах чета японистов, впоследствии достойно представлявшая в Японии советскую державу, уютнейше разместила в книге своей об этой стране блоки маминых воспоминаний начала века. И, — так и не сославшись на автора этих объемистых разделов монографии своей, — на мой недоуменный вопрос о природе явления ответила: — Так ведь маме вашей, такому известному врачу, автору такого замечательного сочинения (по видимому, ввиду имеется всё тот же трехтомник — ВОСТОЧНЫЙ ДНЕВНИК) — зачем всё это?! Ей же с с ы л а т ь с я хотя бы н а с а м у с е б я н е н а д о! …Вот так вот…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: