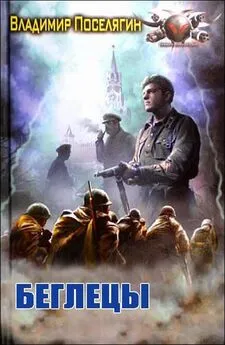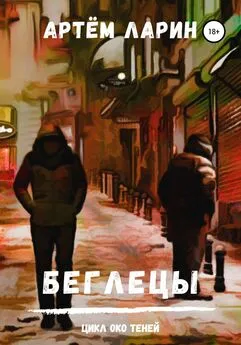Вениамин Додин - Беглецы
- Название:Беглецы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Беглецы краткое содержание
Беглецы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем, Хорсту было все хуже и хуже. Привезенный к нему Сергеев нашел у него признаки сепсиса. Больно и обидно было, спрятав человека от погони, — а погоня шла, только мы не знали ее лица, — теперь дать ему умереть только потому, что рядом не было хирурга!
Тем временем, из Татарки прикатил на Черную речку Тычкин. Его знакомство с немцами было кратким. Им он не назвался, на Йовинский ключ пришел, вроде, как на охоту к другу — Толику. Русский человек, он искренне опасался и потому недолюбливал вообще «всяких немцев». Предки его всех их видали не иначе как на своих казачьих пиках на тех войнах. На худой конец, под своими нагайками, когда отгоняли пленных в тылы. Но в отличие от отцов и дедов Аркадий собственными глазами увидел все то, что в эту войну на земле его России натворили–наворочали немцы–нацисты. Люто их за это возненавидел. И только дружба с семьями Кринке и Геллерт, эстафету которой не уронила в войну его собственная семья, брошенная сталинской властью еще раз на голод и погибель, и снова согретая предметным вниманием Мелитты и Отто Кринке, — эта дружба–родство ссылочное отогрели, умягчили его озлобившуюся душу…
Однако, зайдя в зимовье, поздоровавшись, ни о чем немцев он не расспрашивал. Молчал. Молчали и беглецы. Молчал Анатолий — наблюдал по своей писательской привычке «со стороны» и тем не мало смутил своих иностранных гостей, состояние которых можно было понять…
Страдания Хорста Аркадия тронули: солдат, охотник, — он их сам не раз пережил. «Отойдя», почаевничав с немцами, он по–охотницки осмотрел больного, сделал ему массаж. Спирт «во–внутрё» отменил категорически, вызвав ревнивое но молчаливое недовольство Анатолия /который все как есть «лечил» спиртом, преимущественно именно «во–внутрь»!/. Немцы сказали ему, что опасаются за жизнь Хорста, что не знают, как там у него внутри срастутся поломанные сохатым ребра. Тычкин, подумал, пообещал обязательно привести врача, «которого надо». Еще раз оглядев притихших беглецов, мрачного Анатолия, он, неожиданно, взял из угла притуленный туда свой карабин и протянул его не сразу понявшему в чем дело Толе:
— Тибе, Толик. И усем, значить, твоем друзьям, которы здеся. Берегитя… И что-б вот так вот, как у его /он взглянул на спящего Хорста/ не было больша. Ета ишшо спасибо скажитя, што вам сохатенок–четырехлетка попал! Нарвалися бы на старого, да ишшо на одинца, он бы вам показал кузькину мать, дуракам! А эслиф ишшо матка–корова была с телком — кто б вас тольки хоронил?..
…Тычкин уехал в ту же ночь. Доктор Зинде прожил у Анатолия еще четыре дня. Когда температура у Ставински спала и Хорст впервые за эти дни попросил есть, Макс Эльевич распорядился накормить его «согласно диэты». Потом долго втолковывал изумленному педантизмом доктора Клещенко порядок лечения и ухода за больным, выписал несколько рецептов…
— Доктор! Мы же не в областной больнице! И что я с рецептами буду делать? В местной аптеке отродясь таких названий не видывали!
— Это ваши проблемы. А делать все надо так, как я приказал. И медикаменты добудьте, пожалуйста, пока я из города свои подошлю. С тем и ушел с Анатолием в Раздольный, куда они добрались на третьи сутки, — такие были снега… Я ушел от Толи через сутки…
Этим не кончилось. Через два с небольшим месяца ко мне на Ишимбу Ефим Ильич привел… Илью Глузмана, врача–фтизиатра для Клещенко… Макс Зинде за дни жизни в зимовьи убедился, что Анатолий серьезно болен. Возвратившись в Новосибирск, он рассказал обо всем равву Слуцкому. И Исаак Моисеевич прислал Илью… Отводить его на Черную речку пришлось мне. С собою Глузман привез и теперь тащил по тайге на себе /я нес продукты/ тюк с теплой одеждой для беглецов–немцев. Случайно, все это оказалось очень нужным для беглецов–россиян…
…В декабре 1951 года ликвидировался лагерный пункт на прииске Кировском. В страшенный мороз плохо одетых, без бушлатов и валенок, заключенных погнали пешком в Мотыгино. Говорили, — на новый Первомайский ДОК /Дерево–обделочный комбинат/, что в устьи Тасея, левого нижнего притока Ангары… К ночи, в Петропавловском, обмороженных, голодных, их затолкали до утра в два старых овощехранилища. Ночью зэки прокопали лаз в песчаном откосе. Кто был посмелее — уходили. Малыми группами. В основном — к югу, куда вела расчищенная «клином» дорога. Люди, преимущественно, городские, да из Европы, они страшились зимней тайги, мороза от которого не спасло их холодное овощехранилище…
Почти что последней из лаза ушла шестерка, в которой был охотник–чалдон из села Зайцева, что лежит на левом берегу Ангары напротив Мотыгина. Удерею, Кряж он знал, как свой двор. Потому повел беглецов не на юг, а на Шаарган, — на северо–запад, тоже по очищенной от снега дороге к Партизанскому и Мурожной. Конвой спохватился поздновато — когда уже совсем рассвело, — где–то часов в одиннадцать. Погоня пошла, конечно, в сторону Мотыгина: кто же в такую стужу, голодный, без одежды, сунется в тайгу? Правильно решила.
А шестерка, тем временем, не доходя до Шааргана, у старой брошенной заезжей избушки свернула, по ручью, в глубокий, заросший осинником и таволгой лог. Логом так и шли по неглубокой — по щиколотку — воде, — так при морозе теплее, и вообще, вода в том ручье теплая. Часов через пять или шесть хода вышли в вершину, к теплому ключу. Отдохнули, попили «нарзану», покусали сухарик, пошли дальше. До балаганов сенозаготовителей на Черной речке было отсюда — рукой подать…
Такую компанию /да еще и немцев на Ёвинском ключе!/ Анатолию было не прокормить. Да и спрятать негде. Он отвел их в свое самое дальнее, самое глухое зимовье в вершину Татарки. Но глухомань эта относительна: не так уж и далеко от зимовья до места работ новой, Татарской же экспедиции… В такие морозы геологов, конечно, в «поле», в Татарское верховье просто так не выгонишь. Но могут явиться за образцами — там у них главное хранилище. Было страшно: а вдруг накроет погоня сразу всех — русских и немцев?! Ищут же их со всех концов! Он шестерку мужиков оставил на Татарском зимовьи, явился к Вышедскому. Тот поймал Тычкина. Тычкин — Соседовых. Вот тогда–то Михаил Соседов и увел шестерых русских–беглецов в свое зимовье, а потом в зимовье Тычкина на Медвежью падь, отправив оттуда с Аркадием и со мною японцев ко мне на Борёму: там, двоим, места хватит, и русским на Медвежьей будет просторнее ее и сытнее…
А облава нагрянула, конечно, на Черную речку! Но осторожные немцы сидели себе тихо на своем Ёвинском ключе, в теплом, сухом и сытном схроне. И не знали, что тюрьма, да лагерь /«если повезет!»/ - в нескольких километрах от них прошли–пробежали… Анатолий же, без всякого удовольствия, злой, но гордо злорадствующий, в компании тоже злых, не по–доброму молчаливых, но задарма суетящихся конвойцев принужден был, не без мата и угроз, «прогуляться» по такому снегу!, через буреломы и непролазье Мурожинского хребта, до своего зимовья. Вместе с ошалелым конвоем «убедиться», что там–то уж точно — побывали люди! Но куда делись–ушли?! «Конечно же — на трассу старой, давно заброшенной Мурожинской дороги» /По которой в начале 30–х годов отец Нины, Отто Кринке и его брат Ленард с товарищами на себе, волоком, тащили от Енисея до Кировского по свежепрорубленной просеке многотонные агрегаты, да детали первой в Удерее электрической Американской драги. На которой, самолично собрав ее и пустив в ход, работали потом всю свою рабоче–рабскую жизнь до старости, До смерти…/.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: