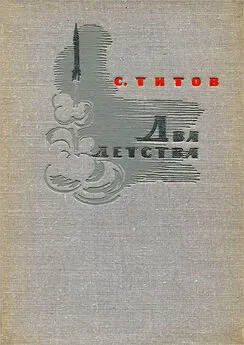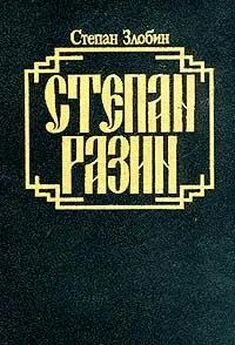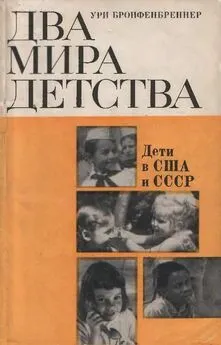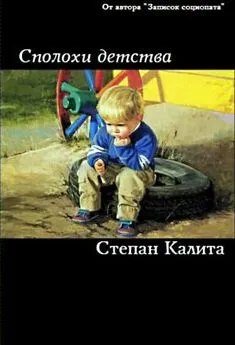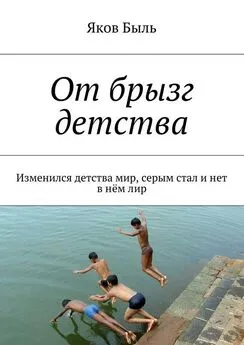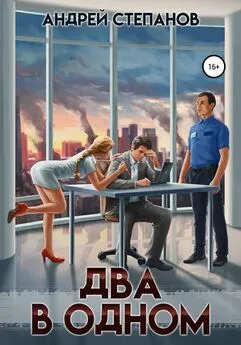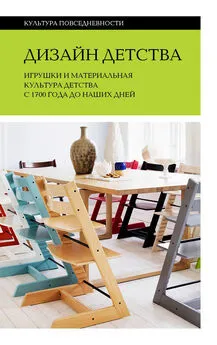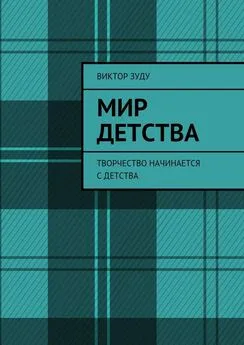Степан Титов - Два детства
- Название:Два детства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1965
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Титов - Два детства краткое содержание
Воспоминания автора биографичны.
Лирично, проникновенно, с большим привлечением фольклорного материала, рассказывает он о своем детстве, оттого что ближе оно пережито и уже давно сложилось в повесть.
Особенно интересны главы, посвященные возникновению коммуны «Майское утро».
Прекрасная мечта сибирских мужиков-коммунаров о радостном завтра, как эстафета, передается молодому поколению, к которому принадлежал Степан Павлович Титов. В боях с фашистами это поколение отстояло завоевание революции, бережно сохранив мечту о светлом будущем — коммунизме.
Без отцовской пристрастности, с большой внутренней требовательностью и чутким вниманием написаны страницы, рассказывающие о детстве сына — Германа.
Взыскательность отца-друга, отца-учителя понятна — ведь этому поколению претворять в жизнь то, о чем мечтали их отцы и деды.
Два детства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Давай о деле. Я хочу здесь заработать, а ты поможешь мне и получишь свою долю. Твои «казацкие с подковами» уже разлазятся, пиджачишко тоже смены просит. Я проведу в этой деревне вечер фокусов и гипноза. С гипнозом не всегда получается. Тебя взял на случай. Твой вид здесь ни у кого не вызовет подозрений.
Дальше было сказано, где сидеть до условного знака, что со мной будет сделано и как вести себя под неотразимой силой гипноза.
— Это будет коронный номер, — утверждал приятель. — Оставайся до вечера здесь, а я пойду готовить представление. Друг друга мы не знаем, ко мне не подходи, до вечера в деревню не показывайся.
Он ушел. Уж не жулик ли? А если догадаются, поймают, намнут хребет? Сбежать, пока не поздно? А денег на билет нет! Невеселые думы заворошились и погнали в поле. До вечера промаялся, а в назначенный час вошел в село, сел в летнем театре в условленное место.
Фокусы прошли удачно. Я дивился искусству приятеля, со всеми хлопал в ладоши, ждал страшного момента. Начался гипноз. Зал притих. Не думал, что в тощем приятеле кроется такая сила. Сначала он взялся за ребятишек. Канопатенький мальчишка не сразу поддался, но, похлопав веками, прижмурился и затих. Его отнесли на стуле в глубину сцены досыпать, а приятель колдовал уже над другими, и вот трое ребят мирно посапывают рядышком на стульях.
— Ну-ка я, — сказал красноармеец, поднимаясь на сцену.
Сзади слышу чей-то тихий разговор:
— Этот скоро поддастся. Солдаты встают рано, целый день на ногах. Сейчас он его приголубит.
Кто-то из мальчишек тихо всхрапнул, а солдат смотрел гипнотизеру в глаза, не мигал, не засыпал. Приятель отпустил его и сказал, что истории гипноза известны железные натуры. Пусть публика не волнуется, будет еще попытка. Он поглядел в мою сторону, а я примерз к скамейке.
— Желающий!
Надо было подниматься на сцену, так как могла изъявить желание новая «железная» натура, тогда не избежать конфуза, а то и скандала. Вначале я тоже не поддавался, как мы условились, но после одного «магического» приема закрыл глаза и изобразил сон. Двое парней поставили меня «сонного» на ноги и после того, как гипнотизер «заморозил» мне мышцы, положили затылком и пятками на кромочки стульев. Было объявлено, что по такому окостеневшему человеку-мосту можно ходить. От этих слов меня и в самом деле прохватил мороз. Вдруг не выдержу и рухнем с позором!.. Гипнотизер пошел. Мои пятки и затылок влипли в стулья. От напряжения я совсем оканемел. Зрители в восторге от последнего номера. Разгипнотизированный, спустился в публику. На выходе какой-то военный спросил:
— Ты, парень, не на паях ли с ним работаешь?
Сердце екнуло. На улице окружили ребятишки. Пошли расспросы, рассказы, что вытворял со мной гипнотизер. Военный отстал. Теперь надо отвязаться от восторженных маленьких спутников. Прибавил шагу — догоняют, допытываются:
— Дяденька, где живешь?
— Мне в эту деревню, — махнул я рукой куда-то.
— О, а мы не все рассказали!
Я шагнул с дороги и пошел в темное поле. Когда голоса замолкли, а в деревне уже спали, сосвистались с приятелем на окраине и отбыли в город ночным поездом.
Вот ты какая, музыка!

Тридцатые годы в музыкальной жизни, по моим представлениям, — были годы попыток создания нового музыкального языка, красок, чувств. Рождалась массовая песня. Никто не знал, какая она должна быть, но ее ждали, она просилась в демонстрацию, чтоб бодро прошагать с народом в дни праздников по площадям и улицам города и села, сменить славно послужившие песни революционных лет. На улицу выносились песни, порядочно устаревшие, без огонька, без звонкого пульса и боевого дыхания. А мир опять опахивало смутной тревогой далекое очертание военной грозы.
Мы были молоды, в небе ходило солнце, не смущал сквознячок, потягивающий с чужой, неспокойной стороны, не думали, что зазвучит предостерегающая песня: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». И достигла гроза, затмила свет. Встали мы в шеренги бойцов за жизнь, подняв, как знамя, суровый напев: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой».
Но мы были молоды, одевались в песенный наряд своего времени, прихватывали из старого гардероба по капризу невзыскательного вкуса такой обветшалый, пропыленный наряд, что рябило в глазах от месива мод, пестрых красок, завывания, говорка. С разных мест пришли мы с музыкальным добром — от кантилены до стона, от народной песни до звуковых вывихов джаза, от чувства, разбуженного содержательной музыкой, до забав и игры в звуковые комбинации. Все, что просто и ясно, не привлекало, но если нотный стан, как из пригоршни, уляпан сорокаэтажными аккордами, — считалось значительным, сложным и важным, равным закону всемирного тяготения. Лирику выставили в коридор общежития. Музыкальные опыты такого характера расценивались, как желание побрякать под Чайковского, а перебрякать его у нас не хватало сил. Своими музыкальными вкусами порядочно наследили мы в учебном заведении, где хранились традиции старых мастеров.
Сам я, нагруженный мнениями товарищей, обожженный вспышками споров в общежитии, не мог составить самостоятельного суждения. Привлекало новое, не совсем понятное, угловатое, но и старое, среди которого для меня была уйма неизвестного, тоже привлекало. Пренебречь одним композитором, поставить другого на высокую волну времени… А есть третий, и сколько их! Каждый по-своему задевает.
Кто-то в спорах назвал музыку лекарством души. Приняли это за шутку, автора выражения прозвали «музыкальной пилюлей». Мне вспомнилось, как в коммуне плясун Никита Иванович однажды растирал мазью больную ногу.
— Какое это лекарство: не щипит, не дерет, должно, выдохлось. Никакого от него действа!
— Тебе бы сейчас бандурку, — заходил бы с присядом, — сказала его жена.
— Вот бы славно! Всю недуж сдернул бы! Это тебя, толстокожую, ничем не пробуравишь.
Музыка — тонкое искусство, но какое-то неточное дело. Труд музыканта представлялся мне развлекательным, создающим людям минутное настроение, как конфетка, пока ее сосешь. Польза дела всегда связывалась с видимым результатом. Возьми лопату, выкопай яму, затрамбуй столб — дело видно! Как же узнать, какого композитора надо похоронить, а какого выкопать? Какой нужен ко времени и почему?
Так думалось, а тем временем, не внимая нашим спорам и мнениям, в театрах жили Бетховен и Чайковский, Скрябин с Бородиным, и сыпал радужный бисер мелодий Моцарт. Какого труда стоило нашим учителям сбить с нас ракушечник, срезать бородавки нездорового вкуса, повернуть лицом к новому и напомнить о корнях, что питают настоящее искусство!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: