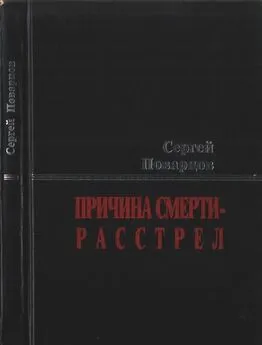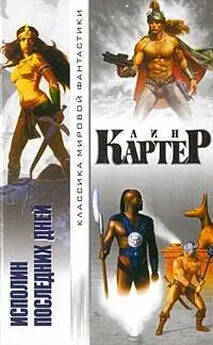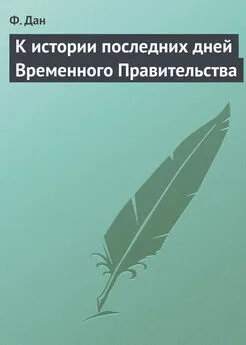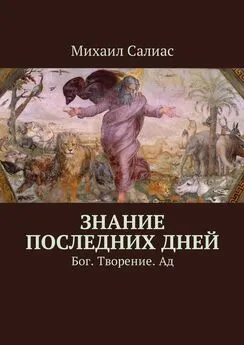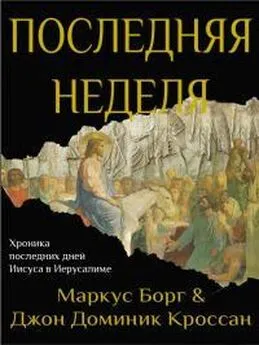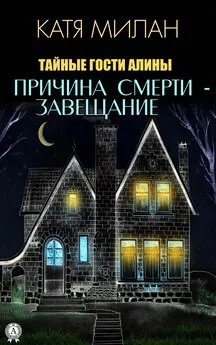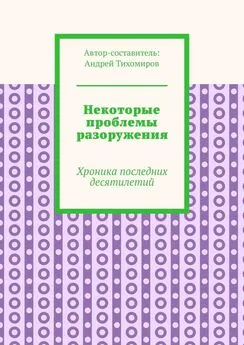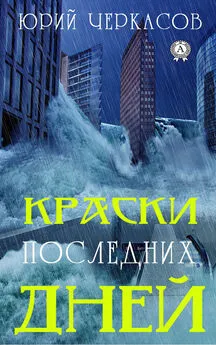Сергей Поварцов - Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля
- Название:Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Терра
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00105-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Поварцов - Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля краткое содержание
Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Читатель уже понял, что роль главного троцкистского беса-искусителя на литературном фронте принадлежала Александру Константиновичу Воронскому (1884–1937). Талантливый критик и в полном смысле собиратель лучших писательских сил после Октябрьской революции, он принадлежал к наиболее просвещенной части партийной элиты. Борьба Воронского с фанатиками так называемой пролетарской культуры из журнала «На посту», статьи и книги, посвященные писателям-современникам, его теоретические работы — блестящая страница русской культуры XX века. Но в контексте внутрипартийной борьбы фигура Воронского многих раздражала. Молодые партийные ортодоксы из РАПП положили немало сил для корчевания «воронщины». Между тем редактор «Красной Нови» отстаивал хороший вкус, здравый смысл и общечеловеческие ценности, решительно выходившие тогда из моды. Судьбу Воронского определил исход борьбы с троцкистской оппозицией, но в какой мере он разделял взгляды Троцкого все же остается неясным до сих пор. Как бы то ни было после 1927 года Воронский уходит в тень, а вскоре Яков Агранов «сфабриковал „дело Воронского“, и только в последнюю минуту Орджоникидзе добился для него замены концлагеря недолгой высылкой в Липецк» [61] Любимов Н. Неувядаемый цвет: Главы из воспоминаний // Дружба народов. 1992. № 7. С. 116.
.
По возвращении из ссылки, Воронский целиком отдался кабинетной литературной работе, писанию мемуаров. К моменту ареста в начале зимы 1937 года он занимал скромную должность старшего редактора сектора классиков в Государственном издательстве художественной литературы. На Лубянке ему предъявили абсурдные обвинения как руководителю контрреволюционной троцкистской группы, имевшей целью совершить террористический акт в отношении Сталина и Ежова. 13 августа 1937 года Военная коллегия во главе с В. Ульрихом приговорила Воронского к расстрелу.
Показания Бабеля против Воронского, сделанные на допросах, малоинтересны, поскольку выдержаны в духе разоблачительной советской прессы того периода. (Когда Воронский исчез с горизонта, газеты и журналы дружно клеймили его как матерого троцкиста и злого гения советской литературы.) Шварцман и Кулешов настойчиво муссируют мотив пагубного влияния троцкиста Воронского на Бабеля и других писателей. В конце концов, читать этот сценарий, изобилующий к тому же повторами, становится утомительно. Поэтому я опускаю скучные страницы майского протокола. Иное дело собственноручные показания. И хотя политические акценты в них те же, что и в протоколе, текст Бабеля, конечно же, более предпочтителен как источник. Бабель пишет:
«В троцкистскую среду ввел меня в 1924 году — А. К. Воронский, редактор журнала „Красная Новь“. Вокруг него группировались тогда видные оппозиционеры и троцкисты — Лашевич, Зорин, Павел Смирнов, за кулисами постоянно чувствовались Пятаков и Серебряков. Эти люди вели при нас, беспартийных сотрудниках „Красной Нови“ (Сейфуллина, Есенин, Полонская, Леонов, Всев. Иванов и др.) недвусмысленные осуждающие разговоры о внутрипартийном режиме и, хотя они старались выбирать выражения общие, беспредметные, но яд этих слов надолго отравил и душу и мозг. Все явления партийной и общественной жизни освещались под одним троцкистским углом зрения. В яростной кампании, поднятой Воронским в 25–26–27 годах <���…> мы были „козырями“, присутствие которых должно было подтверждать правильность точки зрения Воронского. С уходом Воронского мы стали опорными пунктами его влияния на литературную молодежь, центром притяжения для недовольных политикой партии в области искусства. Вокруг Сейфуллиной и Правдухина сгруппировались сибирские писатели („крестьянствующие“), к Пильняку потянулись авантюристы и неясные люди, моя репутация некоторой литературной „независимости“ и „борьбы за качество“ привлекала ко мне формалистически настроенные элементы. Что внушал я им? Пренебрежение к организационным формам объединения писателей (СПП и др.), мысль об упадке советской литературы, критическое отношение к таким мероприятиям партии, как борьба с формализмом, как одобрение вещей полезных, но художественно неполноценных.
Идеи эти, если можно их так назвать, находили широкий отклик и, несомненно, на какой-то промежуток времени задержали и извратили рост советской литературы.
Вся эта система взглядов, проводившихся в жизнь без организационной связи и от случая к случаю, являлась, однако, прямым отзвуком воронщины и продолжением его литературного курса».
В следующий раз Бабель углубит тему, начав рассказ с отказа некоторых писателей от опального редактора-оппозиционера. Да, определенное охлаждение к нему имело место, тем не менее Воронский продолжал оставаться притягательной фигурой в литературной среде. Читая бабелевский текст, понимаешь, что вопреки оценкам, сделанным в неволе, до нас-таки доходит правдивая информация о настроениях советской творческой интеллигенции. Такое ощущение, будто через головы мучителей писатель обращается из застенка к гражданам будущей, свободной России.
«После снятия Воронского с „Красной Нови“ он стал чем-то вроде „воеводы без народа“. Обнаружил колебания Всеволод Иванов — это было сочтено за предательство; отошел Пильняк, по-прежнему продолжали встречаться с Воронским Сейфуллина, я, Леонов. Тогда же на смену и в помощь „красноновцам“ был организован „Перевал“. Воронский понимал, что от нас, людей вышедших из-под опеки, с определившимися вкусами, литературной дорогой ему не добиться нужной общественной активности; эта задача возлагалась на перевальцев, от нас же требовалось — не печататься в „Красной Нови“ при новой редакции, отдавать свои вещи в издания Воронского („Круг“ и др.), печататься вместе с молодыми в „Перевале“, чтобы демонстрировать единство и преемственность кадров Воронского. От нас же требовалось воздействовать на общественное мнение, на видных партийных, советских работников, убеждая их в правильности литературной политики Воронского. Недостаточно, партизански, но задачи, поставленные Воронским в те годы (1925–1927), выполнялись. Наряду с этим Воронский продолжал то, что можно назвать бытовой обработкой. О чем говорилось за стаканом чая? Перепевались покаянные рассказы о старой, ушедшей Руси, в которой наряду с плохим было так много прекрасного; с умилением вспоминали монастырские „луковки“, идиллию уездных городов; царская тюрьма — и та изображалась в легких, иногда трогательных тонах, а тюремщики и жандармы выглядели по этим рассказам чуть вывихнутыми, неплохими людьми. Недооценка т. наз. „хороших людей“ — Пятаковых, Лашевичей, Серебряковых вменялось революции в смертный грех…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: