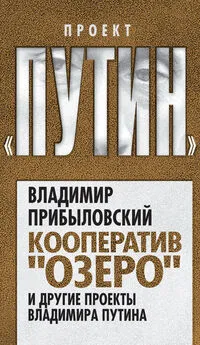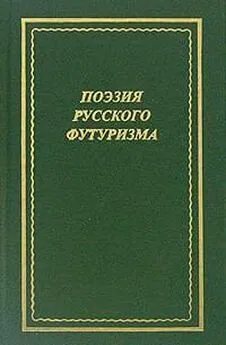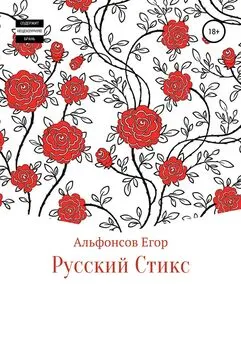Владимир Альфонсов - Ау, Михнов
- Название:Ау, Михнов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Звезда
- Год:2012
- ISBN:978-5-74390-168-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Альфонсов - Ау, Михнов краткое содержание
Ау, Михнов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Александр Кондратов (Сэнди Конрад, как он себя именовал) — личность во многих отношениях исключительная. Он перемалывал в себе бесконечную информацию, прямо-таки компьютер. Да что компьютер! — можно сказать, что уже и Интернет (когда Интернета и в намеке не было). Общаться с ним было тяжеловато: он без конца говорил, не давая сказать собеседнику. И работал так же, запоями. Сидел две-три недели за пишущей машинкой и выдавал готовую книгу. Человек-монолог, с неожиданными переключениями темы.
При всех заимствованиях откуда угодно, из разных эпох и культур, он утверждал себя как человек и писатель принципиально русский. Отец Кондратова, по его рассказам, был казачий генерал, в какой-то момент войны разжалованный Сталиным и погибший в штрафбате. С казаками Сэнди имел связи до конца жизни и что-то важное для них, по-видимому, значил — приехавшие на его похороны казаки стояли у гроба с шашками наголо.
Россия у Кондратова повернута на Восток, принадлежит Востоку гораздо больше, чем Западу (как у Хлебникова). Восточные религии и языки, йога, в сеансах демонстрации которой Сэнди принимал участие, искусство Востока — все это составляло для него устойчивый научный, творческий и личный интерес.
Кондратов написал много стихов (разумеется, в стол). В поэзии он перепробовал всевозможные жанры и стили, соединяя мифологическую, в принципе, основу и крайний авангардистский эксперимент (опять-таки как у Хлебникова: зверь + число). Среди его стихов немало превосходных, но меня в свое время больше поражала подпольная проза Кондратова, за которой в кругу профессиональных знатоков литературы закрепилось определение “циническая” (помню, так отзывался о ней Н. Я. Берковский). Кондратов особо ценил Генри Миллера и даже переводил “Тропик Рака”. Но вызывающе обнаженная эротика Кондратова — только часть целого: в его романах и рассказах Генри Миллер пересекается с Кафкой, закручиваются хитроумные детективные сюжеты (сказалась учеба молодого Кондратова в милицейской школе?), вырисовывается картина безумного и насквозь поднадзорного мира, в котором реальное неотделимо от фантастического. Гипертрофированный “русский бред”, с элементами поэтики, идущими от Гоголя, Достоевского, Сологуба, Ремизова — вплоть до обэриутов.
Судьба творческого наследия Кондратова, составляющего, по плану автора, двенадцать объемистых томов, и сегодня не ясна. Тому много причин, в том числе субъективных.
В стихотворении, посвященном обэриутам, Кондратов писал:
За что Господь их покарал, Анкету жизни замарав?
Никто из них не умирал Своею смертью в номерах.
И лишь один из них, отступник,
Перед самим собой преступник...
“Один из них” — Николай Заболоцкий, “изменивший” принципам ОБЭРИУ и тем “спасшийся”. Стихотворение по отношению к Заболоцкому имело осудительный смысл, однако в жизни Кондратова произошло нечто похожее, только с другим поворотом. Нет, он не изменял своим художественным принципам, не приспосабливал свое творчество к обстоятельствам — он держал его глубоко под спудом, до поры до времени. Но когда наступит это время? и наступит ли?
Трудно и грешно так говорить, но Кондратов, может быть, не угадал своей судьбы. Он рассказывал (хвастал?), что издательство “Галлимар” готово издать собрание его сочинений. Но он решил сначала утвердить себя здесь, на родине. Я убежден: издай Кондратов свои романы тогда за рубежом, быть бы ему одной из главных диссидентских фигур. А теперь... Что будут значить его “цинические” романы теперь, после разгула постмодернизма, после Э. Лимонова и В. Сорокина? В историю литературы он безусловно войдет, и феномен Кондратова, чрезвычайный склад его личности еще подлежит осмыслению. Но “звездный час” своего шокирующего явления миру он упустил. Хорошо это или плохо — не знаю.
А “утверждал себя” Кондратов написанием бесчисленных научно-популярных книжек, их он издал более полусотни (помню, как отмечали выход пятидесятой). О чем только не писал Кондратов! — об Атлантиде и электронном разуме, о букве и великанах острова Пасхи, о тайне океанов, о звуках и знаках, о древних письменах. Параллельно участвовал в исследовательских экспедициях. Общался с Львом Николаевичем Г умилевым, пил водку с Юрием Кнорозовым, писал стиховедческие статьи в соавторстве с академиком А. Н. Колмогоровым — его связи в научном мире казались безграничными. Защитил кандидатскую диссертацию и чуть-чуть не дожил до защиты докторской.
Вот эта-то бурная деятельность Кондратова и вызывала разочарование Михнова. Она расценивалась им как измена, приспособленчество. Само слово “популяризатор” применительно к Кондратову превратилось у Михнова в “популизатор”.
Измена чему — творческому призванию? таланту? Тоже не так просто.
С течением времени, по принципу расширения круга, тень сомнения Михнова легла и на художественные произведения Кондратова. Итоговую, весьма скептическую оценку его творчества Михнов дал позже, в октябре 1977 года (запись телефонных бесед с Ритой Пуришинской):
“Кондратов загрузил литературой, я читал, читал, думал, что засну. <.> Нет, тяжелое снотворное, инфернальная литература, про ад, про смерть, бессмысленность. Я ему скажу свое мнение. Сто страниц одно и то же. <.>
Кондратовская литература снилась. Читаю два-три слова и засыпаю. А во сне опять снится. Из пустого в порожнее, сплошная тавтология, такое все навязчивое (в плохом смысле слова, как ему самому не скучно), такое мертвое, плоское, инферналь без передыха, все в одну точку, но эта точка художественно не интересна”.
В решительности прямой оценки Михнов не прав: произведения Кондратова, конечно же, “представляют художественный интерес”. В данном случае, похоже, Кондратов попал не в настроение, Михнов в тот момент был очень болен и, если судить по тем же беседам, вообще не мог читать — ни Германа Гессе, ни любимого Монтеня. А шире —
Кондратов вписался в контекст неоднократных размышлений Михнова о тех художниках, которые вносят в жизнь лишнюю смуту, демонстрируя свои аномальные свойства: “Передавать свою ущербность другому — не очень благородная вещь...
Одни дают дыхание, другие — стесняют его. Позиция Кафки — гнусная. Можно ведь создать иллюзию, тростинку. У Л. А. (Леонида Аронзона. — В. А.) это есть, хотя он и пишет про гробы. У Босха — тоже — при всех ужасах — улыбка”. Немного странно (подробнее потом), но в ряд “ущербных” художников попал у Михнова Филонов: “недобрый художник”, “жил под колпаком собственной болезни — навязывание этой болезни — отсутствие улыбки”. Все это записи уже 1970-х годов, но Михнову всегда был присущ “утвердительный” взгляд на искусство как творение мира; мессианизм, по его понятиям, относится к онтологическим свойствам искусства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: