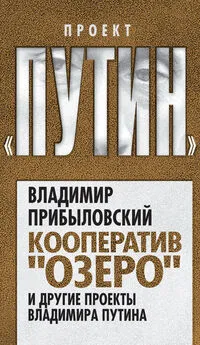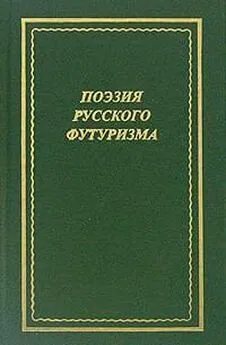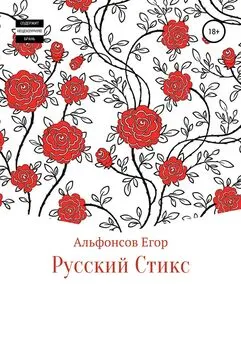Владимир Альфонсов - Ау, Михнов
- Название:Ау, Михнов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Звезда
- Год:2012
- ISBN:978-5-74390-168-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Альфонсов - Ау, Михнов краткое содержание
Ау, Михнов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И все же Белый оставался мистиком и символистом, не утратившим чувства изначальной тайны бытия. А искусство футуристов во многом основано на дискредитации этой изначальной тайны, на отказе от традиционной духовно- сти, символически бравшей мир целиком, в его высшей целесообразности и полноте. Знаменитые в то время слова «материя исчезла» плохо вяжутся с искусством футуризма, которое оставалось материально-чувственным даже тогда, когда доходило до абстракции и зауми.
Однако при чем тут Михнов, художник уже другого времени? Очень даже при чем. Я не уверен, что Михнов читал «Петербург» Андрея Белого или статью о нем Бердяева (он был знаком с другими работами Бердяева). Но мысли Михнова и тем более его живопись тесно соприкасаются с обозначенными в них философско-художественными идеями. Духоматерия, которую исповедовал и утверждал Михнов, — понятие в равной мере онтологическое и творческое. Вселенская духоматерия универсальна и всеобъемлюща: небо и земля, миг и вечность, жизнь и смерть, «вечная краса» и «равнодушная природа» — Все (Ничто) и Везде (Нигде). (Что означает современное понятие «анти- вещество»? Где скрыты «параллельные миры»?) В плане художественного метода и стиля духоматерия предстает у Михнова как стремление материализовать в красках тайну бытия или населить мир небывалыми живыми формами, не столько в единстве, сколько в противоречии с реальной предметностью. Подобных или сравнительно близких трактовок мира на протяжении XX века появилось много. Основополагающим для поэтической философии Бориса Пастернака является убеждение, что «все время одна и та же необъятно-тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях» («Доктор Живаго»). Если мысленно (условно, конечно) лишить ключевое слово «жизнь» заведомо священного для Пастернака ореола, то все это рассуждение вполне можно воспринять как взаимосвязь относительных значений, как сплошную антиномию. И в свойственном Пастернаку пафосе обожествления жизни неминуемо появляется нота холода бытия и тема трагедийного счета, который жизнь предъявляет человеку.
Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в даренье.
Только свадьба, вглубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.
« Свадьба »
Пастернака я вспоминаю специально, для развития темы. В сознании позднего Михнова Пастернак занял наконец-то место в ряду весьма почитаемых поэтов. Долгое время Михнов видел в нем... формалиста. Почти в согласии с советской критикой (но исходя, конечно, из собственных представлений) он считал, что Пастернак нарочито усложняет свои стихи, запутывает читателей из соображений амбициозного свойства. Михнов любил поэзию, сам, случалось, писал стихи и поэтов оценивал по-своему, со своих мировоззренческих и художественных позиций. Иногда завышал оценку (в ситуации исключительной: Аронзон), чаще — отдавался своей привычке поучать и перечить общепринятому мнению, давал оценки критические, не минуя и канонизированных классиков. Думать здесь больше приходится не о мере объективности той или иной михновской оценки, а об особых свойствах его собственного искусства, без учета которых эти оценки утрачивают значительную долю своей весомости.
Вечные и наиболее значимые поэтические темы любви, природы, смерти, судьбы художника были, по существу, запретными для самого Михнова, создателя в принципе «нетематических» и уж во всяком случае бессюжетных картин. Запретными именно как обозначенные темы — не будем сейчас говорить об эмоциональном настрое или воздействии этих картин. Темы уходили «вглубь», трансформировались в духоматерию красок, даже если послужили (как соответствующее размышление или состояние художника) толчком к созданию той или иной картины, что в принципе тоже не исключено, но отнюдь не является нормой в работе художника-абстракциониста. И вполне возможно, что «запретные» для него как художника темы по-особому волновали Михнова в другом искусстве. Борис Пастернак и открылся Михнову на уровне вечных тем, чрезвычайно важных для Михнова в решении творческих и жизненных задач. И усложненность Пастернака предстала в новом свете. Многозначность поэтического слова Пастернака, поразительное богатство ассоциативных связей в его стихах оказались в соотносимой близости с открытиями Михнова, новыми свойствами его живописи позднего периода.
Отлично помню, как живо воспринял Михнов стихотворение Пастернака «Облако. Звезды. И сбоку.» — четвертую вариацию цикла о Пушкине «Тема с вариациями» в книге «Темы и вариации» (1923).
В «Темах и вариациях» Пастернак заметно романтизирует судьбу поэта, не отступая при этом от уже сложившейся в его творчестве идеи, что искусство рождается из природы. В «пушкинском» цикле «Тема с вариациями» Пушкин дан в глубинной связи со стихиями жизни, стихией в известном смысле исторической («наследие кафров»), но
больше, конечно, природной. Трактовка не индивидуально-характерная, такой Пушкин выступает заведомо как носитель надличного начала. Связь со стихией осуществляется через творческое призвание, а в призвании равно заключены свобода и подчинение: голос моря (мотив «свободной стихии» природы и творчества) взаимодействует в цикле с зовом пустыни (мотив предназначения, пушкинского «Пророка»).
За взрывами романтического чувства у Пастернака стоит, как правило, подвижная и в основе своей «трезвая» мысль, изнутри сдерживающая романтиче- ский напор. В стихотворении «Облако. Звезды. И сбоку...» утверждается идея утраты (самоограничения) как необходимого условия творческого служения. Взят мотив Алеко, но отрицается как раз путь Алеко, его прямой расчет с жизнью, в поступках, в судьбе частного, полновластного в своих чувствах «я». Судьба поэта, чей образ встает в контексте всего цикла, иная: его высшая свобода — это, с другой стороны, требовательное предназначение, несвобода; претензии и прихоти частного «я» часто оказываются «не в счет».
Это ведь кровли Халдеи Напоминает! Печет,
Лунно; а кровь холодеет. Ревность? Но ревность не в счет!
Стой! Ты похож на сирийца.
Сух, как скопец-звездочет. Мысль озарилась убийством. Мщенье? Но мщенье не в счет!
Тень, как навязчивый евнух. Табор покрыло плечо.
Яд? Но по кодексу гневных Самоубийство не в счет!
Прянул, и пыхнули ноздри.
Не уходился еще?
Тише, скакун, — заподозрят. Бегство? Но бегство не в счет!
Когда я читал вслух это стихотворение, Михнов очень живо реагировал на каждый повтор слов «не в счет». А читал я, прямо сказать, театрально, акцентируя повторы по нарастающей. Очень Михнову понравились эти стихи. Он их воспринял как созвучные его собственным чувствам. В другой связи, но о том же он скажет: «Я не имею права покончить с собой, как Аронзон» (записано Женей). Тоже не без нажима, но достаточно всерьез. У Пастернака все обстоит сложнее. Интонация страстей, движущая стихотворение, в конечном счете обманчива, она здесь не единственная, а может быть, даже и не главная. Есть другая, скрытая интонация — мысли, уже спокойной в своей убежденности. Она не заявляет себя прямо, она всего лишь сумма отрицаний того, что «не в счет», и только в целом цикле проясняется по существу, но все равно: именно эта интонация приводит к последней завершенности, равновесию и полноте.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: