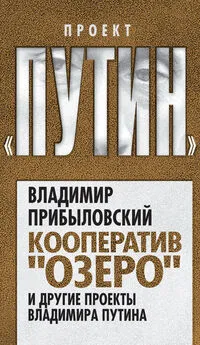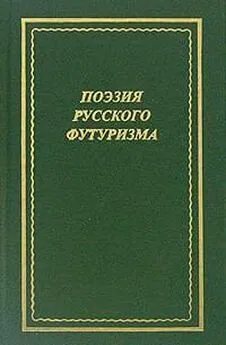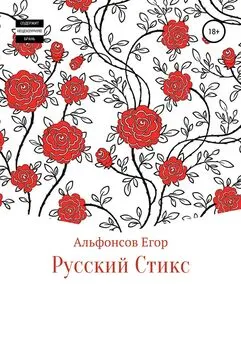Владимир Альфонсов - Ау, Михнов
- Название:Ау, Михнов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Звезда
- Год:2012
- ISBN:978-5-74390-168-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Альфонсов - Ау, Михнов краткое содержание
Ау, Михнов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Слегка — в главе о Маяковском, написанной в 1962 году, основательнее — в главе о Заболоцком (1964). В книге я дал и первую вроде бы у нас после 1932 года репродукцию произведения Филонова — «Ломовые». Известные статьи о Филонове Д. Сарабьянова и Е. Ковтуна появились в конце 1970-х годов. Так что тема Филонова естественно возникала в наших разговорах с Михновым, и его неприязненное отношение к Филонову я почувствовал сразу. Не помню, чтобы я пытался его в чем-то переубедить: мне и тогда были интереснее причина и суть его устойчивой нелюбви к Филонову.
В «Автобиографии», написанной в 1929 году, Филонов определил род своей деятельности (профессию) двойным словом: «художник-исследователь». Что исследовал Филонов? Секреты живописного мастерства? Их, разумеется, тоже, но проще сказать, что сфера его исследований безгранична: предметы, явления, понятия, события.
Обратим внимание на названия произведений Филонова разных лет, живописных или графических — все равно: «Восток и Запад». «Запад и Восток». «Корабли». «Мужчина и женщина». «Формула городового». «Формула пролетариата». «Перерождение интеллигента». «Перерождение человека». «Пир королей». «Победитель города». «Ломовые». «Рабочие». «Коровницы». «Крестьянская семья (Святое семейство)». «Масленица». «Цветы». «Цветы мирового расцвета». «Ввод в мировой расцвет». «Формула космоса». «Победа над вечностью». «Формула вселенной». «Формула весны». «Человек». «Человек в мире». «Женщина». «Животные». «Формула современной педагогики». «Шпана». «Беспредметная композиция». «Голова». «Головы». «Две головы». «Живая голова». «Лики».
И так далее. Можно переписать полностью каталог произведений Филонова, ни одно название не покажется лишним. Предельно конкретные или предельно обобщенные, названия варьируются, они раздельны и в то же время группируются, образуют тематические единства, гнезда. Творчество Филонова складывается из множества «формул» и в целом представляет собою некую единую формулу, всеохватный мир художественного познания.
Филонов считал, что современное искусство — и традиционное (реализм), и экспериментальное (кубофутуризм) — ограничивает свое взаимодействие с природой двумя свойствами (предикатами) восприятия и изображения — цветом и формой. А в действительности любое явление (предмет, событие, процесс) предстает и раскрывается в бесчисленном множестве проявлений и свойств (физических, химических, биологических, психологических, энергетических и т. д.) — проявлений видимых и невидимых, в разных пространственных измерениях, от внутриатомного до вселенского. Так что же, все эти процессы и превращения, включая и те, что недоступны «глазу видящему» (здесь требуется «глаз знающий»), должны стать предметом исследования средствами изобразительного искусства? Жутковато становится, но в принципе, по логике мирового переворота, затеянного Филоновым в его «аналитическом искусстве», — да, должны стать предметом исследования.
Показательным примером служит картина 1923 года «Живая голова». В ней угадывается контур головы, но словно содрали с головы кожу, вскрылось нутро, можно увидеть «наливные рюмочки глаз» сложнейшей, как у стрекозы, структуры, можно представить, при желании, сплетение сухожилий, пульсацию сосудов и т. п. Но это не анатомическая штудия студента-академика. В пору своих попыток поступить в Академию художеств Филонов испытывал трудности как раз с анатомией, теперь он, рискну сказать, с лихвой, фантастическим образом наверстывает упущенное. Сказался и опыт обучения юного Филонова в малярно-художественной мастерской. Но опять-таки — не ремесленную задачу преследует Филонов, не забор раскрашивает, как Том Сойер, — он воспроизводит процесс бытия, «строение природы», дает «формулу мироздания». В каталоге Академии художеств 1923 года картина «Живая голова» значилась под другим, более широким, названием: «Голова в бытии. Процесс становления». Оставим на размышление читателя книги (или тем более зрителя картины) вопрос, что конкретно мыслил здесь Филонов под понятием «процесс становления». Очевидно, что нечто глобальное, последнее, решающее. «Очевидец невидимого» — так определял Филонова Алексей Крученых. Филонов разворачивал одну из самых радикальных, безумных утопий переделки мира и искусства, которую сам он квалифицировал как «Ввод в мировой расцвет». Свои картины Филонов завещал ленинградскому пролетариату.
«Упорно и точно рисуй каждый атом», — требовал Филонов от последователей и учеников в организованной им мастерской аналитического искусства. «Каждому атому» — детали, предмету, краске, «въевшейся» в предмет, — он отводил надлежащее место в структуре создаваемых им «сделанных картин». С другой стороны, однако, известно, что Филонов мог писать картину от угла, постепенно расширяя композицию и как бы воссоздавая процесс странного перевоплощения явлений. Он был убежден, что картина «должна расти и развиваться так же закономерно и органически, атом за атомом, как совершается рост в природе». Художественная задача Филонова — достичь всеобъемлющего синтеза на путях крайнего анализа, соединить рациональную механику и биологическую органику (своеобразная филоновская бионика). Но чем тщательнее выписывались детали, тем отвлеченнее становилось умозрительное целое. И словно не умея совладать с притягательной властью простых и грубых вещей, Филонов все чаще обращался «к формулам» — писал метафизические абстракции.
Евгений Михнов некоторые свои картины демонстративно называл антифилоновскими. Он прекрасно понимал свое главное отличие от Филонова: «Филонов идет от частного к общему, я — от общего к частному». Попробую пояснить положение на примере литературно-философском, вроде бы совсем постороннем, но на деле очень даже причастном обсуждаемым проблемам.
Я принес Михнову «Философию общего дела» Николая Федорова. В советском издании: Н. Ф. Федоров. Сочинения. М.: Мысль, 1982 (вступительная статья С. Семеновой). Через какое-то время, достаточно продолжительное, книга вернулась ко мне с карандашными пометками Михнова.
Умопомрачительная программа регуляции мироустройства и воскрешения прошедших поколений людей, судя по пометкам, не очень-то вдохновила Михнова. Гораздо ближе ему оказалась федоровская идея Музея — хранилища вековечной Памяти. И вообще концепция Федорова ближе Филонову, а не Михнову. Вспоминается прекрасная оценка «Философии общего дела», принадлежащая Николаю Бердяеву. Бердяев высоко оценивает активное отношение к космосу, присущее Федорову, последовательность и решительность его концепции. Все в книге Федорова расставлено по местам и наделено отчетливой функцией в деле продолжающегося творения мира. Все есть в этой книге, нет только одного — по мнению Бердяева, надо полагать, главного — нет таинства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: