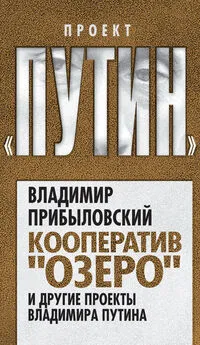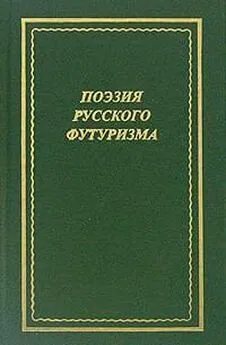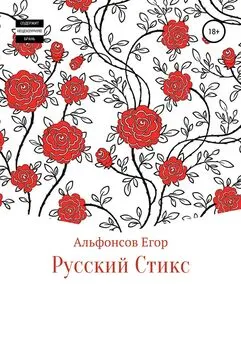Владимир Альфонсов - Ау, Михнов
- Название:Ау, Михнов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Звезда
- Год:2012
- ISBN:978-5-74390-168-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Альфонсов - Ау, Михнов краткое содержание
Ау, Михнов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Продолжим прерванную цитату из эссе Филатова — о выходе Михнова к собственной манере, обретении магических «ключей»:
«В 1970-х годах <.. .> ключи уже были у него в кармане, но он еще не видел дверь, которую мог ими открыть, дверь в страну „вторичной фигуративности“. Он начал создавать картины, смысл которых не был предсказан и даже возможность которых не допускалась. Когда они были сделаны, даже влюбленные в живопись люди с трудом постигали его открытие. Произошло нечто невероятное — подобное тому, что цветы заговорили, а люди стали летать, как птицы. То, что родилось нечто замечательное, Михнов понимал интуитивно, но что именно и почему это произошло, он не стремился осмыслить. Гениальный художник никогда не пытался самостоятельно разобраться в теории живописи, и это было естественно».
Приведем сразу же еще цитату, тоже пространную. Отправной точкой размышления здесь является снова Поллок, но — уступающий свою историческую миссию Михнову. Внимание автора эссе перемещается в область «естественных и необходимых элементов и средств живописи», которые в творчестве зрелого Михнова получили неожиданное и совершенно самостоятельное выражение.
«В картинах последнего великого мастера лирической абстракции Поллока живопись сводилась к предельно минимальным, формальным средствам: плоскость и краски на ней. От когда-то полнокровного, цветущего тела живописи оставался только жест. Михнов начинает заново наращивать на голом скелете живописи то, что было утеряно. Обогащается его палитра, появляются сложные цветовые сочетания, смеси. На место господству линии приходят мазки, пятна, колористические конгломерации. Художник использует разнообразный набор мастихинов и других приспособлений, позволяющих создавать массы, объемы, пространства. Возникает разнообразная текстура плоскости, глубина. Все то, что является естественными и необходимыми элементами и средствами живописи. Его живопись густеет, наливается массой и тяжестью, движением, блеском, светом и тенью. Одновременно она продолжает оставаться абстрактной и нонфигуративной, неизобразительной. Опосредованно в живопись возвращается богатство всех реальных форм и предметы, фрагменты действительности и события. Явно этого ничего нет, но в то же время это возникает повсюду, как возникают призраки и тени, как прерванный сон, который только что казался реальным. Абстрактная живопись Михнова восстановила на время утраченное единство формы и темы, присущее первоначально только фигуративной живописи. Основой его живописи стала форма, за которой возникают полифонические и полисемантические темы».
Филатов свято верит в идею вторичной фигуративности, видя в ней ключ к постижению живописи Михнова. Ради идеи допускает передержки. Филатов охотно пользуется и явно злоупотребляет термином «тема», который в применении к абстрактному искусству представляется по меньшей мере рискованным. Рядовой зритель картин Михнова, понимающий под темой элемент художественного замысла , пытается этот замысел реконструировать и домыслить, конкретизировать, опираясь на предметные ассоциации, возникшие у него при разглядывании картины, — пытается расшифровать произведение, которое для самого художника до конца остается тайной. Вопрос о степени осознания самим Михновым тех или иных ассоциаций вряд ли относится к разряду разрешимых. Но он существует, от него никуда не уйти. Как ни открещивался Михнов от «так называемых ассоциаций», находя их примитивными, они, как наваждение, неотвратимо возникали вновь и вновь, становились органическим свойством его картин, и Михнов, пусть с раздражением, через сопротивление, конечно же, испытывал интерес к зрительским фантазиям по поводу его картин — к зрительскому самовыражению.
На сегодняшний день признание за живописью Михнова ассоциативных свойств становится уже привычным в контексте того пока еще немногого, что написано о его творчестве. Никто из пишущих, слава богу, не считает, что загадочная тенденция предметности, изобразительности в работах Михнова 1970—1980-х годов означает просто возврат к фигуративной живописи. Нет, это был шаг в неведомое, невероятное, и суждения критиков на этот счет — достаточно разные. Р. Климов засомневался в эстетической целесообразности этого шага,
а Ю. Филатов, наоборот, связал с ним и даже вывел из него расширение в живописи полифонической и полисемантической образности. М. Г ерман отмечает и подчеркивает у позднего Михнова «нечто полностью, абсолютно индивидуальное (редкостная вещь в абстракции XX в.!)». Термин «вторичная фигуративность», примененный к Михнову Филатовым, при всей своей смысловой зыбкости (а может, и благодаря ей) акцентирует вопросы психологии творчества, включая сложное взаимоотношение актов создания произведения и его восприятия.
Михнов хорошо знал идеи Филатова и оценивал их с привычной недоверчивостью:
«Г оворит о форме, а думает все время о содержании». А нет ли в этом осуждении ноты внутреннего согласия? Таков характер самой проблемы формы и содержания: вынесенная с начала XX века на арену бесконечных полемик, она сама насквозь двойственная, внутренне контрастная. «Форма выступает в роли содержания» — так сформулировали один из радикальных вариантов решения проблемы ученые-теоретики, приверженцы «формального метода». Михнов прекрасно понимал, что стоит за этой формулой, понимал непосредственно, как художник.
4
Живопись — искусство телесное, чувственное, материальное. Царство красок единосущно с другими элементами и формами материального мира — бытия — и постоянно их использует, имитирует, создает. В картинах нидерланд- ского художника XV века Робера Кампена фигуры святых облачены в одеяния, как бы высеченные из дерева. Итальянец Андреа Мантенья наделяет человече- ские тела чеканностью металлических изделий. В запасниках Русского музея Михнова, по свидетельству Жени Сорокиной, поразил «никому не известный художник по фамилии Проскуда, картины которого как будто написаны пеплом». Сам Михнов в середине 1970-х годов создал серию работ «Скрижали», названную так по ассоциации с библейскими каменными скрижалями. Фактура работ Михнова нередко напоминает какой-либо «посторонний» материал: камень, дерево, глину, стекло и т. д. Это проблема не столько стилистическая, сколько мировоззренческая: воочию предстают (воспользуемся определениями Пастернака) «лепка мира», «существованья ткань сквозная», «чувство короткости со вселенной». В цикл «Скрижали» не входит, но его мощно предваряет, а может быть, и заранее превышает квадрат 1974 года «Посвящение Пабло Казальсу» (Альбом 2002, с. 192 и обложка), произведение, порождающее разные фактурные ассоциации (камень, железо, лед) и по напряжению, а также благодаря названию примыкающее к «баховским» импровизациям Михнова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: