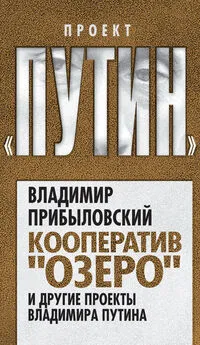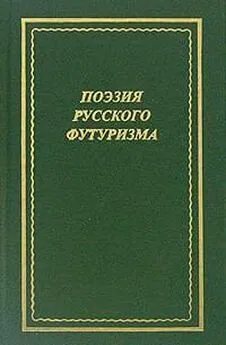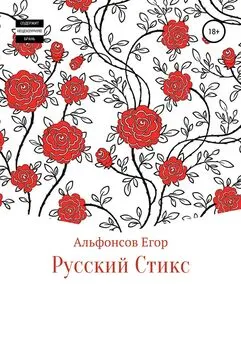Владимир Альфонсов - Ау, Михнов
- Название:Ау, Михнов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Звезда
- Год:2012
- ISBN:978-5-74390-168-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Альфонсов - Ау, Михнов краткое содержание
Ау, Михнов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Обилие пластических «уподоблений» в живописи Михнова побуждает вспомнить Михаила Врубеля, с творчеством которого у Михнова существовала весьма противоречивая связь.
Врубель мало писал небо. Часто в его картинах оно закрыто высоким горизонтом, нередко светится лишь полоска зари. Однако мир Врубеля беспределен. В русской живописи до XX века вряд ли есть другой художник, равный Врубелю по выражению вечной изменчивости мира, по своеобразному космизму настроений, почти превосходящему возможности живописи.
Из сине-лилового мирового сумрака, который служит одновременно декоративным фоном, выплыли (чтобы рано или поздно вернуться в него) фигура сидящего Демона и волшебные каменные цветы на месте предполагаемых крыльев («Демон сидящий», 1890). Плоскость фона не просто подчеркивает скульптурность фигуры Демона, но есть в ней нечто неумолимо-бесстрастное и бесконечно протяженное, недоступное, может быть, даже духовному взору. Поэтому на плоскости фона сильнее ощущается разница между напряженной фигурой и свободной декоративностью мертвых цветов. Три плана, которые создают условное пространство, приобретают почти символический смысл.
Разумеется, только почти. Попытки его «расшифровать» сопряжены с опасностью нарочито символического толкования, к тому же легко забыть об использовании в живописи Врубелем «смежных» приемов мозаики и витража. И все же это не просто «техника», а пластически выраженная мысль о всеобъемлющем единстве мира, таящего в самых простых, первозданных формах бесконечную возможность превращений, смерти и обновления.
Первый биограф и исследователь Врубеля А. П. Иванов писал о его картинах: «Простейшая составная форма, будучи лишь пластической деталью какого-нибудь образа или лика, в то же время являет собою как бы новый цельный образ. Часть лебединого крыла и человеческой головы, лепесток степного растения, отдельный зубец снеговой цепи словно уподоблены неким иным вещам, одаренным самостоятельным и замкнутым в себе бытием». И дальше: «И вот формы, из которых слагается оперение его лебедя, напоминают полупрозрачные кристаллы какого-то бело-розового хрусталя; члены коней — округлые сплавы багряной меди и красного золота; плечо Сатира (Пана. — В. А.) — бугроватый слиток потемневшего серебра; глаза Демона — сапфиры, в которых тлеет загадочный серый цвет; далекие зубцы горного хребта — исполинские, ограненные плоскостями рубины».
Такие «уподобления», фантастически преображая действительность, навевая сложные и смутные чувства, не разрушают, однако, реальных качеств явлений. Гениальная врубелевская «Сирень» (1900) — это именно сирень, может быть — самая свежая в русской живописи. Возможность метафорических образов открывается художником в самих формах сирени и в эффектах холодящего лунного света. И вот, погружаясь в эту сирень, мы вдруг ощущаем себя внутри каменного грота, среди разнообразных кристаллов и пород, замечаем наплывы окаменевшей пены прибоя. И наверное, странно было бы не встретить здесь девушку, руки и лицо которой, пронизанные холодным светом, полупрозрачны, как хрусталь, а волосы и платье ниспадают мягкими волнами. Все это — сирень, лирическая сила чувств, связанных с нею. Но все это — и нечто большее: в окаменевших цветах, в мерцании звездочки над зубчатым сиреневым кустом, в затаенных фиолетовых тонах, организующих колорит, — во всей гармонии этой картины есть загадочность и тревожность. Реальный образ природы, воссозданный художником, вобрал в себя и переложил на чувство большую и сложную мысль о мире и человеке.
Нет нужды формулировать эту мысль как умозрительную программную идею. Таковой в «Сирени», конечно, нет. Пластический язык Врубеля непереложим на логический даже тогда, когда, казалось бы, недвусмысленный сюжет дает для этого основание. Не так-то просто, например, выразить чувство, возникающее при виде того, как изломанные крылья поверженного Демона, сливаясь с гранями гор, входят в ритмы мощной горной симфонии.
Пластические «уподобления» в искусстве Врубеля — не символы в каждом отдельном случае. Но тяготение к символике свойственно самому методу Врубеля, живопись его почти навязывает чувство некоего праначала явлений. Это именно чувство, а не умозрительная философия, и чувство сложное, противоречивое. В причудливой игре холодных самоцветов, рассыпанных в произведениях Врубеля, есть какая-то сковывающая сила, словно предел, установленный для дерзающего духа, но в ней же — источник гармонии, возможность побороть или хотя бы приглушить трагическую смуту страстей, подчинив ее вечной и торжественной красоте мира.
«Вторичная фигуративность» живописи Михнова имеет много точек соприкосновения с пластическими «уподоблениями» Врубеля. В пределах локальных участков художественного пространства их картин на сходство натыкаешься даже слишком часто. Однако кардинальное различие систем Врубеля и Михнова спасает от соблазна придать моментам сходства принципиальное, решающее значение на уровне творческого метода. Грубо говоря, у Врубеля из предмета (из натуры) рождается форма (образ), и технология этого рождения более или менее представима; у Михнова из формы, в принципе абстрактной и самодо- статочной, какими-то неведомыми путями при активном участии сознания зрителя выявляется «предмет» (ассоциация, вфдение, кажимость).
Михнов воспринимал Врубеля прежде всего как художника тематического. В этом ключе он и наводил на Врубеля свою критику: осуждал его за романтическую постановку темы, за «гигантоманию». В «Демоне», по словам Михнова, «много лишнего». Только что в «Демоне» не лишнее? В «Демоне» все — «лишнее». «Сильнейшей вещью» Врубеля Михнов назвал маленький рисунок «Кампанулы» (их у него целая серия) — изображение цветов. Мне всегда казалось, что Михнов нарочито заостряет свое неприязненное отношение к Врубелю, чтобы приглушить моменты близости, сходства с ним.
Похожий трудный сюжет сложился у Михнова и с другим художником, имя которого в шестидесятых-семидесятых начало выплывать из тьмы тридцатилетнего замалчивания и дискредитации и с которым потом даже больше, чем с Врубелем, стали сопоставлять Михнова, — с Павлом Филоновым.
23 мая 1974 года Михнов с научной сотрудницей Эрмитажа Н. А. Лившиц побывал у сестры Филонова Евдокии Николаевны Глебовой в квартире на Невском, 60, где хранилась большая часть произведений Филонова, позже переданных Глебовой в Русский музей. Впечатление Михнова было неожиданным — отрицательным: «Мне ДУШНО от этих работ».
К началу второго этапа моего общения с Михновым я уже кое-что понимал в Филонове. Е. Н. Глебову я посетил раньше, чем Михнов. Это было связано с моей работой над книгой «Слова и краски: Очерки из истории творческих связей поэтов и художников», которая вышла в 1966 году. В ней я касался творчества Филонова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: