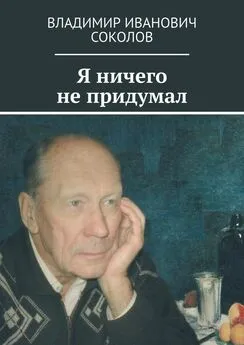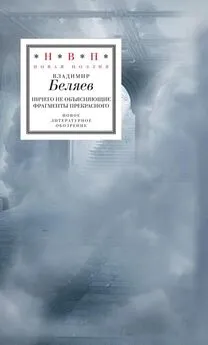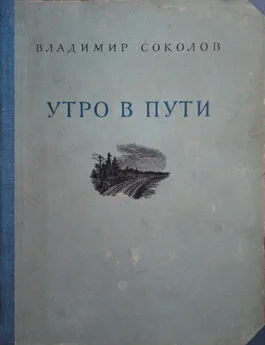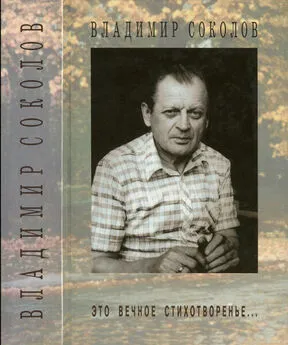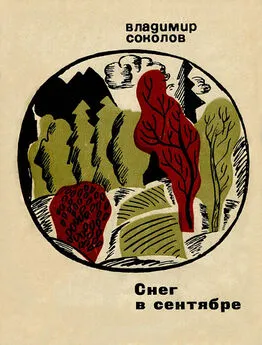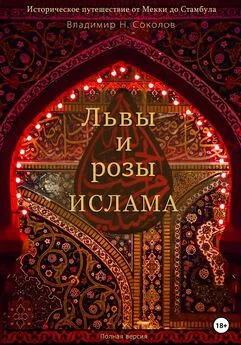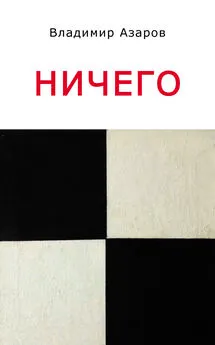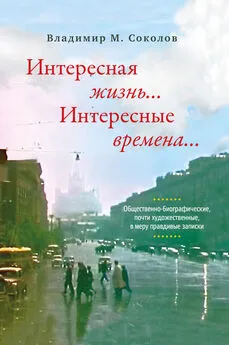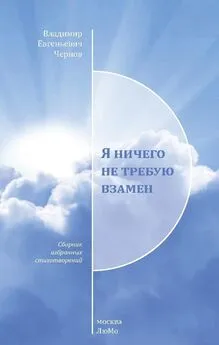Владимир Соколов - Я ничего не придумал
- Название:Я ничего не придумал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Соколов - Я ничего не придумал краткое содержание
Язык книги — и лёгкий, и серьёзный. В ней есть юмор, самоирония, лиричность и мудрость. В ней есть настоящая человеческая теплота… Как будто ты говоришь сперва с мальчишкой, сыном, а потом со старшим братом… Двадцатилетним парнем, победившим страх, боль… ВОЙНУ. Перелистывая последнюю страницу, чувствуешь благодарность к автору и радость, что ты принадлежишь к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.
Я ничего не придумал - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, возможно были и исключения. Нехорошие слухи ходили о Раисе Болдыревой, которая «гуляла» с офицерами расквартированного в Давлеканове военного училища.
Была у меня и неразделённая любовь. Во время войны в десятом классе появилась эвакуированная из Москвы красивая девочка по имени Заря, а фамилия у неё была Невская. Невская Заря! Она была приветлива, но совершенно недоступна — так она держалась. Говорили, что её отец был послом в Великобритании. Однажды она позволила мне подвезти её домой на велосипеде. Я вёз Зарю на раме, грудью ощущая теплоту её плеч, и как бы обнимая её. Вот и всё. Но я помню это до сих пор.
Зимой 1941 года к нам приехал из блокадного Ленинграда, точнее, из Кронштадта, брат мамы дядя Феня (Феодосий Андреевич Станчиц). Его жена тётя Груня, сестра моего папы, работала главврачом в инфекционной больнице в Кронштадте. Она питалась в больнице и отдавала мужу свои карточки. Только поэтому он и выжил.
Таких исхудавших людей, я никогда не видел. Их можно увидеть сейчас только в документальных фильмах о лагерях смерти. Он рассказывал, что, когда их через Ладогу доставили на «большую землю», погрузили в товарные эшелоны и выдали паёк на всю дорогу, то больше половины эвакуированных умерли в ближайшие дни. Они не смогли совладать с собой и, вместо того, чтобы есть понемножку, как рекомендовали врачи, наедались досыта. Дядя Феня, как истинный Станчиц, пунктуально выполнил все предписания врачей и благополучно добрался до нас.
Немного оправившись, дядя Феня принял участие в нашей жизни и снял целый ряд забот с мамы. А когда позднее приехала тётя Груня и стала работать врачом в больнице, жить нам стало намного легче.
Общение с дядей Феней существенно влияло на моё развитие и личностные качества.
Это был пунктуальный, даже несколько педантичный человек. Любое дело он делал с максимальной тщательностью. Любил точные, ясные формулировки. Мне нравились эти черты характера дяди Фени, и я хотел быть похожим на него.
Будучи опытным педагогом с дореволюционным образованием, дядя Феня ненавязчиво, в обычных разговорах, развивал во мне любознательность, внушал любовь к русскому языку и литературе, обучал правильности речи и грамматике русского языка. Когда я был ещё дошкольником, он отдыхал у нас на хуторе и увлекательно рассказывал мне об основных законах физики, о звездах и планетах, о метеоритах, о горных породах. Я до сих пор помню, из чего состоит гранит.
Меня приняли в члены ВЛКСМ, причём без всяких затруднений. Я был очень рад этому, потому что боялся, что меня не примут из-за отца. Мне хотелось быть таким, как все.
Взрослый человек, если он сознательно пошёл на конфликт с обществом (примером могут служить диссиденты), может даже гордиться тем, что он отвергнут. Но для ребёнка быть изгоем — это просто ужасно. А ведь такие дети были.
Моим ближайшим другом в Давлеканове был мой ровесник Мунька Радзыминский, а если точно, то Эммануил Владиславович Радзыминский. Его мать, Фрида Юлиевна Радзыминская, была, подобно моей маме, выслана из Москвы, как жена осуждённого по 58 статье. Она вывезла из Москвы, видимо, ради сына, большую библиотеку, которой я свободно пользовался. Мунька был близок мне по развитию. Я часто бывал у него. Мы разговаривали с ним на самые разные темы, играли в шахматы и слушали классическую музыку на патефоне, привезённом из Москвы.
Иногда мы приглашали двух знакомых девочек-москвичек из нашего круга и весело проводили время: пили чай, болтали, обсуждали школьные дела, вспоминали о прошлой жизни и немного флиртовали.
Мунька увлекался философией. Он читал книги основоположников и предшественников марксизма, верил в светлое социалистическое будущее и даже в конечную цель — коммунизм.
Его судьба оказалась трагичной. Когда началась война и наступил момент призыва Эммануила в армию, его направили в стройбат. В стройбаты, т.е. в строительные батальоны, которые занимались строительством различных сооружений в тылу, призывали людей, которым не доверяли службу в нормальных войсковых частях. Там служили выпущенные из тюрем рецидивисты и прочие изгои. Служить в стройбате было для идеалиста Муньки унизительно.
Мунька хотел попасть на фронт и доказать, что он честный гражданин и патриот, хоть отец его и осуждён, как «враг народа». Я думаю, что не все, служившие в стройбате, рвались на фронт. Мунька писал рапорты с просьбой отправить его на фронт. Подключилась даже его мама, понимавшая состояние сына. Стройбат дислоцировался около Уфы, и маме удалось встретиться с сыном и с командиром стройбата. Ничего не помогало. Тогда в отчаянии несчастный Мунька ударил себя лопатой по голове. Это было расценено, как умышленное членовредительство с целью уклонения от военной службы. Военный трибунал приговорил его к отправке на фронт в штрафную роту. В первом же бою Мунька был убит.
Я узнал о начале войны 22 июня 1941 года, когда, прибежав утром с купанья, услышал по трансляции выступление Молотова. Я не испугался, а даже обрадовался, потому что ожидал, что сейчас мы начнём бить врага на его территории, как это внушалось нам до сих пор.
Я тотчас сел за стол и срисовал с карты на отдельный лист бумаги все прилегающие к западным границам СССР территории Польши, Румынии и Восточной Пруссии, чтобы отмечать продвижение наших войск вглубь этих стран.
О том, что произошло потом, нет надобности рассказывать. Недоумение, тревога — вот главные чувства, которые были написаны на лицах людей.
Стали появляться раненые с фронта, в том числе и бывшие ученики нашей школы. Они рассказывали страшные вещи.
Однако жизнь продолжалась. Я окончил десятый класс, и надо было поступать в институт. Я выбрал СГИ — Свердловский горный институт и послал туда документы. Почему именно этот институт? Да потому, что поблизости не было другого солидного института. Немцы были под Сталинградом и на Кавказе.
Пришёл вызов из СГИ. Меня приняли без экзаменов, как обладателя аттестата с отличием.
5 сентября 1942 года я покинул родительский кров. Так закончилось моё детство.
Свердловск
Итак, я прибыл в Свердловск и был зачислен на электромеханический факультет Свердловского горного института. Мне дали место в общежитии и выдали продовольственные карточки для служащих.
В комплект входили карточки нескольких видов. Была хлебная карточка, которая давала возможность купить в магазине по государственной цене 400 граммов хлеба в день, а также карточки на мясо, масло и крупу. Хлебные карточки мы оставляли себе, чтобы свободно распоряжаться хлебом, а остальные сдавали в студенческую столовую, которая обеспечивала нас обедом. В магазинах почти всё продавалось только по карточкам. Без карточек продукты можно было купить только на рынке, но высокие цены делали их недоступными не только для студентов, живущих на стипендию, но и для людей со средним уровнем зарплаты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: