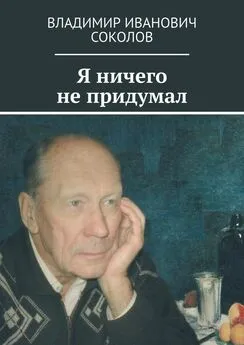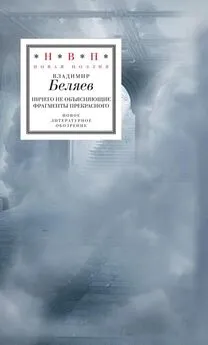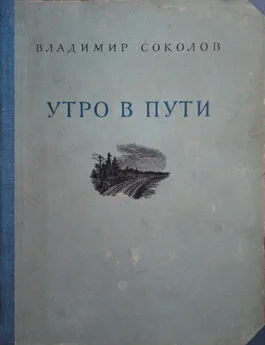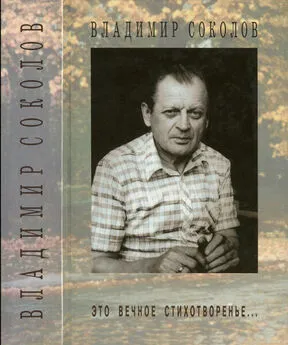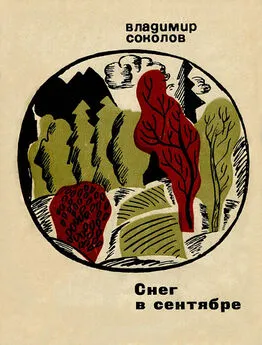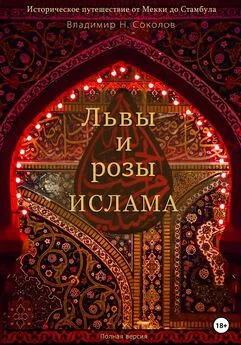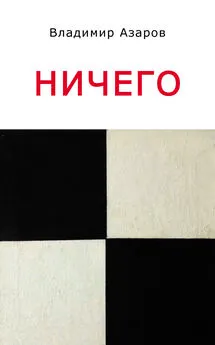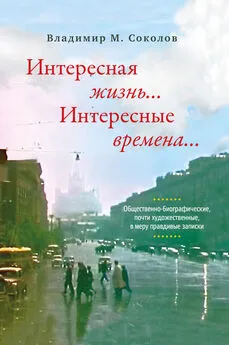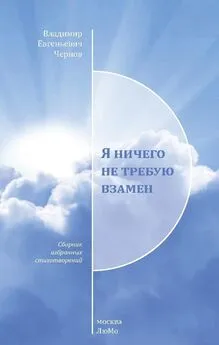Владимир Соколов - Я ничего не придумал
- Название:Я ничего не придумал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Соколов - Я ничего не придумал краткое содержание
Язык книги — и лёгкий, и серьёзный. В ней есть юмор, самоирония, лиричность и мудрость. В ней есть настоящая человеческая теплота… Как будто ты говоришь сперва с мальчишкой, сыном, а потом со старшим братом… Двадцатилетним парнем, победившим страх, боль… ВОЙНУ. Перелистывая последнюю страницу, чувствуешь благодарность к автору и радость, что ты принадлежишь к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.
Я ничего не придумал - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После окончания занятий старшина вел нас в строю на обед. По дороге, когда мы шли по улице, он командовал: «Запевай!» В каждом взводе был запевала. Он начинал песню, а мы подхватывали припев и орали: «Белоруссия родная, Украина золотая, твоё счастье молодое мы стальными штыками защитим!» Я тоже орал изо всех сил. Мне нравилось орать. Я был полон молодых сил, которые требовали выхода.
Заведя нас в столовую, старшина командовал: «Снять головные уборы! Садись!» Мы садились за длинный стол, на котором стояла кастрюля с супом и поднос с хлебом, заранее нарезанным на порции по числу едоков. Если в нашем взводе было, скажем, двадцать пять человек, то было двадцать пять порций. Суп в кастрюле был рассчитан тоже на двадцать пять человек. По тарелкам суп разливал один из курсантов нашего взвода, которому доверял коллектив. Надо было разлить суп по тарелкам таким образом, чтобы во всех тарелках было одинаковое содержании, как по количеству, так и по качеству. Понятно, что сделать это было нелегко.
Интересно было наблюдать за поведением людей. Некоторые с жадным вниманием следили за тем, как разливают суп. По окончании разливки они быстро хватали ту из тарелок, в которую, как им казалось, попало больше мяса. Другие демонстрировали полное отсутствие интереса к процессу разливки и брали ту тарелку, которая стояла ближе. К последней категории обычно относились люди из интеллигентных семей.
Чем ниже развитие человека, тем больше он подвержен животным инстинктам и потому менее надёжен в экстремальных ситуациях. На фронте я убедился в правильности моих наблюдений. Впрочем, бывают и исключения из правил, но правила, тем не менее, остаются в силе. Для подтверждения моих обобщений сошлюсь на классика: Борис Лавренёв, «Сорок первый».
Пора рассказать и об основной учёбе. Учебный план был построен на принципе взаимозаменяемости. Каждый член экипажа должен при необходимости заменить любого другого. На танке Т-34 образца 1943 года экипаж состоял из четырёх человек: командира танка (он же стрелял из пушки), заряжающего (он по команде командира заряжал пушку), механика-водителя и радиста-пулемётчика. Механик-водитель и радист-пулемётчик сидели внизу, в лобовой части танка. Остальные находились в башенном отделении. Конечно, основное внимание уделялось основной специальности. В учебном полку готовили всех членов экипажа, кроме командиров танка. Командиров готовили в офицерских училищах.
Теоретические занятия проходили в классах. Мы изучали по плакатам устройство танка, его вооружение, тактику танкового боя и т. д.
Главным предметом изучения для нас, радистов-пулемётчиков, была, естественно, танковая радиостанция, а также стрельба из пулемёта. Кроме того, все должны были уметь обращаться с винтовкой, автоматом, пистолетом и револьвером системы «наган».
Практические занятия проводились в парке боевых машин. Когда я впервые увидел «живой» танк Т-34, меня охватил восторг. Как интересно было осваивать эту технику!
Всё началось с элементарных, но абсолютно необходимых упражнений: нас учили по команде «по машинам!» занимать места в танке. В танке два люка: передний, слева по ходу танка, против места механика водителя, и верхний — в «потолке» башни. В передний люк сперва должен вскочить (ногами вперёд) радист-пулеметчик. Его место в танке справа — у пулемёта и рации. Потом должен вскочить механик-водитель и закрыть люк. В верхний люк вскакивает сперва заряжающий, а потом командир машины и тоже закрывает люк. Поскольку в танке должна быть взаимозаменяемость членов экипажа, мы по очереди менялись местами. Командир взвода, лейтенант Шестаков, стоял с секундомером и засекал время. Мы научились за 10 секунд занимать места в танке.
Вождению мы учились на танкодроме, а стрельбе — на полигоне.
Однажды мы выполняли на полигоне упражнение в стрельбе из танкового пулемёта по мишени, установленной на расстоянии 100 метров. Каждому стрелявшему старшина выдавал пять патронов, которые мы должны были зарядить в магазин пулемёта и поразить мишень очередью из пяти выстрелов. Ещё до стрельбы я залез в танк и попробовал прицелиться в мишень. К моему ужасу я не смог её чётко увидеть. Дело в том, что ещё в десятом классе у меня возникла близорукость.
Началась стрельба. После того, как очередной курсант выполнял упражнение, все бежали к мишени, чтобы посмотреть результаты стрельбы. Я подошёл к командиру взвода и признался ему, что у меня близорукость, и я могу не попасть в мишень. Из-за плохого зрения меня могут отчислить из танковых войск, а я хочу быть танкистом. «Идите и стреляйте, всё будет в порядке», — сказал командир. Когда после моей пулемётной очереди курсанты хотели бежать к мишени, лейтенант приказал: «Всем оставаться на огневой позиции. Я сам посмотрю». Вернувшись от мишени, он сказал старшине: «Запишите: одна четвёрка, одна двойка, остальные — мимо». Мишень поражена. Я так и не знаю, действительно ли я попал в мишень, или меня выручил командир.
У нас в распорядке дня было предусмотрено время для личных дел: два часа перед отбоем. Однажды в это время пришёл штабной посыльный и сказал, что мне приказано явиться в штаб полка. Я удивился, но привёл себя в порядок и направился в штаб. Обратившись к дежурному офицеру, я спросил его, кто меня вызывал. Офицер тоже удивился и сказал, что он никого за мной не посылал, и вообще в штабе никого нет из начальства. Потом подумал и сказал: «Попробуйте зайти в комнату №11». Я последовал его совету. Постучавшись в дверь и услышав «Войдите!», я вошёл и увидел капитана, сидящего за столом. «Соколов Владимир Иванович?» — спросил капитан, «Так точно», — ответил я. Капитан вежливо пригласил меня присесть и начал разговор.
Доверительно, дружелюбно он внушал мне, что я, как честный комсомолец, должен помогать органам выявлять врагов нашей страны. Это могут быть не обязательно агенты немецкой разведки, а просто трусливые люди, которые не хотят воевать и готовы дезертировать из армии. А могут быть и такие, которые не одобряют действий партии и правительства. Это тоже потенциальные враги, которые могут быть легко завербованы вражеской разведкой. Мне рекомендовалось прислушиваться к разговорам и докладывать об услышанном.
Я с первых слов капитана сообразил, о чём идёт речь, и мучительно думал о том, как мне выкрутиться. Я заверил его в том, что, если бы я обнаружил агентов врага, то непременно сообщил бы об этом по собственной инициативе. Однако это его не устроило. Он сказал, что я должен являться к нему раз в неделю, независимо от результатов моей «работы». Я не должен никому, в том числе и командиру взвода, рассказывать о нашем разговоре. Для посещения капитана я должен придумать благовидный предлог, например обмен книг в библиотеке, которая находилась в здании штаба.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: