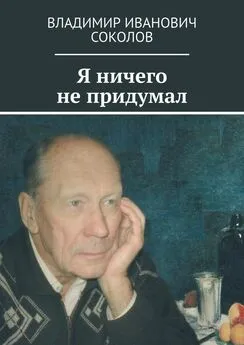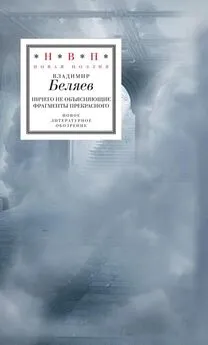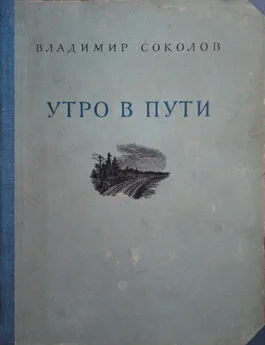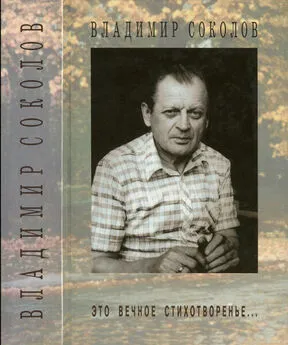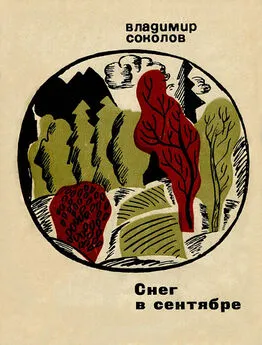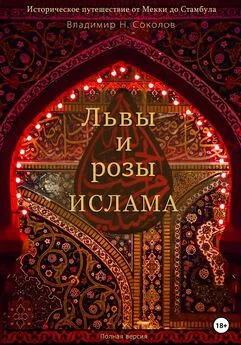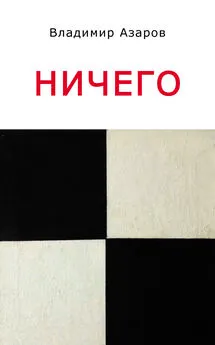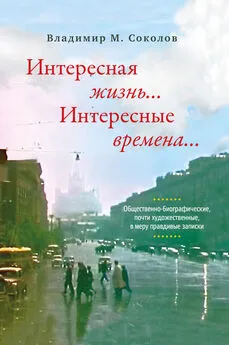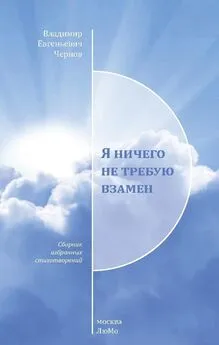Владимир Соколов - Я ничего не придумал
- Название:Я ничего не придумал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Соколов - Я ничего не придумал краткое содержание
Язык книги — и лёгкий, и серьёзный. В ней есть юмор, самоирония, лиричность и мудрость. В ней есть настоящая человеческая теплота… Как будто ты говоришь сперва с мальчишкой, сыном, а потом со старшим братом… Двадцатилетним парнем, победившим страх, боль… ВОЙНУ. Перелистывая последнюю страницу, чувствуешь благодарность к автору и радость, что ты принадлежишь к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.
Я ничего не придумал - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В конце учёбы нас направили на завод, где мы должны были работать подручными у рабочих на сборке танков. Это мероприятие имело, вероятно, две цели: помощь заводу дармовой рабочей силой и практическое знакомство с устройством танка.
Работали мы в разных цехах. Сперва меня направили в цех, где собирались балансиры и «прикрепили» к рабочему по фамилии Суворов. Балансир — это деталь, к которой крепится опорный каток танка. Таких катков у танка по 6 штук с каждого борта. Они хорошо видны на фотоснимках. Все 46 тонн массы танка опираются на эти катки.
Балансир представляет собой массивный стальной рычаг весом несколько десятков килограммов. В отверстиях на концах балансира закреплены трубчатые оси, перпендикулярные телу балансира и направленные в противоположные стороны. Одна ось предназначена для опорного катка. Другая ось вставляется в отверстие на корпусе танка и может в нём вращаться, давая возможность опорному катку перемещаться по вертикали. Внутренняя поверхность этой трубчатой оси имеет шлицы для соединения с одним из концов торсионного вала. Другой конец торсионного вала имеет шлицевое соединение с корпусом танка. Сопротивляясь скручиванию, торсионный вал подпружинивает рычаг, образуемый балансиром с опорным катком на его конце.
Наша задача состояла в том, чтобы закрепить оси в соответствующих отверстиях на концах балансира. Делалось это так. Мы подцепляли балансир крюком лебёдки и опускали его в электрическую печь, углублённую в пол цеха. После определённого времени нагрева мы извлекали балансир из печи и клали на специальный стол из металлических уголков. Работали, разумеется, в жаростойких рукавицах, используя щипцы и другие приспособления. После этого надо было достаточно быстро, пока балансир не остыл, взять ось и вставить её в соответствующее отверстие до упора во фланец. Диаметр отверстия и сопрягающийся с ним внешний диаметр оси обрабатывались с высокой точностью, и при нагретом балансире ось легко вставлялась в отверстие. После остывания металла ось «намертво» зажималась в отверстии. Это называлось «горячей запрессовкой».
Всё в принципе очень просто. Однако, на всё нужна сноровка. Стоит немного перекосить ось, и она уже не лезет в отверстие. Пока ты пытаешься её выровнять, ось прогревается, а металл балансира в месте соприкосновения с осью, наоборот, охлаждается. И вот уже ось заклинило на полпути. Брак!
Условия работы на заводе были суровые (я имею в виду не себя и мне подобных, а настоящих рабочих). Двенадцатичасовой рабочий день, т.е. работа в две смены: ночную и дневную. Высокие нормы выработки. Скудное питание в рабочей столовой. Коммерческие продукты были рабочим не по карману. За опоздание на работу, не говоря уже о прогуле, — под суд. Многие рабочие, чтобы сэкономить силы, не ездили домой, а отдыхали тут же в цеху. В частности, мой Суворов устроил себе в углу цеха подобие лежанки, где и проводил почти всё свободное от работы время. Аналогичное положение было на всех военных заводах тыла.
Мы работали только днём. Ночевали «дома» — в части. Во время работы мы питались в заводской столовой. После работы нас привозили «домой», и мы в нашей столовой получали и съедали весь дневной рацион, оставленный для нас «в расход» (был такой термин). Нам это очень нравилось.
Многие из моих товарищей по учёбе через некоторое время пребывания в учебном полку заскучали по фронтовой жизни. Их стало тяготить всё: и жизнь по распорядку дня, и необходимость ходить строем в столовую и на занятия, и питание по тыловой норме, и сон в казарме по команде «Отбой!», и пробуждение под вопль « Р-р-рота, подъём!» и тому подобные штрихи мирной армейской жизни. Казалось бы, зато здесь не убивают, и ради этого можно перенести все эти, в общем-то, мелкие неприятности. Но нет, начались ностальгические воспоминания о вольной фронтовой жизни. Рассказывались байки, в которых война представлялась чередой интересных приключений. Эти ребята с завистью смотрели на своих товарищей, которых досрочно (так иногда случалось) направляли на формирование экипажей танков. Они не были наивными романтиками. Тогда что же их привлекало во фронтовой жизни?
Мне кажется, что характер жизни в учебном полку в психологическом плане воспринимался ребятами-фронтовиками, как снижение статуса их значимости, почти как унижение. На фронте в экипаже танка каждый делал своё дело, и, хотя по уставу существовала взаимозаменяемость членов экипажа, никто не умел водить танк лучше механика-водителя, никто не знал рации лучше радиста-пулемётчика, и никто не знал тактики боя лучше командира. Успех в бою и возможность сохранить жизнь в равной мере зависела от каждого члена экипажа. Всё было подчинено одной цели, всё лишнее — отброшено, в том числе и в части взаимоотношений между сержантским и офицерским составом (рядовых в экипажах не было).
В одиннадцатой главе я уже говорил о том, что есть категория людей, для которых самоуважение является необходимым условием психологического комфорта. Ради этого они и готовы рисковать жизнью.
Ну, а если бы ребятам было точно известно, что они погибнут на фронте? Я думаю, они не стремились бы туда попасть. Следовательно, в основе решений, связанных с риском, всегда лежит подсознательная (другой не может быть) оценка вероятности остаться в живых, соразмеряемая с преимуществами, ради которых человек рискует. Всё сказанное относится к нормальным людям. Поведение фанатиков и, вообще, людей с патологической психикой меня не интересует.
Осталось ответить на вопрос, к какой же категории относился я сам: к тем, кто рвался на фронт, или к тем, кто стремился окопаться в тылу? Отвечаю: ни к тем, ни к другим. Я был вроде фаталиста: пошлют на фронт, когда подойдёт очередь, — поеду без огорчения. А если бы мне предложили остаться в учебном полку? Такое предложение было маловероятным, поэтому тогда я над этим не задумывался. А сейчас я думаю, что мог бы и согласиться, если бы мне предложили должность, связанную с обслуживанием техники. Впро-
чем, может быть, это мой теперешний взгляд, а тогда я и не согласился бы.
Наконец мы закончили учёбу, мне было присвоено звание гвардии старшины, и меня направили в часть, где формировались экипажи танкового полка.
3-й Белорусский фронт
После завершения комплектации личного состава мы получили на заводе танки, погрузились на платформы и тронулись в путь. Первым пунктом назначения была Тула. Под Тулой находился большой танковый полигон, где танкисты, ещё не имевшие опыта работы на ИС-122, отрабатывали технику вождения, тактику боя и проводили учебные стрельбы. В Туле мы пробыли с 24 июля 1944 года до 13 августа. Затем снова погрузились на платформы и двинулись на фронт. На какой — не известно. Перемещение военных эшелонов всегда засекречивалось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: