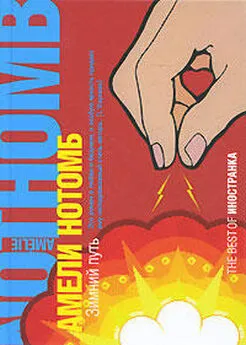Иэн Бостридж - «Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости
- Название:«Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-113625-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иэн Бостридж - «Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости краткое содержание
«Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И при этом мы чувствуем, как и должны чувствовать, согласно замыслу, сострадание, смешанное с отвращением, когда встречаем на зимнем пути старика-изгоя с его раздражающей псевдонародной мелодией, гудящей на открытых струнах. Стоит взглянуть на картину Жоржа де Латура со слепым шарманщиком – и мы испытаем те же смешанные чувства.
Поэтому наше сострадание – сложное переживание, и что еще более его усложняет, так это страх, что одинокий истощенный старик – будущее кого-то из нас. Вот вы, или я, или кто-то еще, живущие милостыней. Эта картина отталкивает и в то же время притягивает: мы отторгаем старика-шарманщика и восхищаемся его силой, поскольку он как-то выживает в подобных обстоятельствах. А мы смогли бы так? Стихотворение могло задеть еще одну, особенно чувствительную струну в душе Шуберта, поскольку он и сам был музыкантом. Своему другу Эдуарду Бауэрнфельду он в 1827 году говорил: «Я уже вижу тебя советником и знаменитым автором комедий! А я? Что будет с бедным музыкантом, вроде меня? Мне кажется, я буду бродить от двери к двери, как гетевский арфист, и просить себе на кусок хлеба!»
Дополнительная беглая подсказка, проливающая свет на напряженное внимание самого Шуберта к фигуре шарманщика, есть во фразе Dreht er, was er kann (буквально «Крутит он, как только может»). Это напоминает об иронии скитальца в словах Zittr’ ich, was ich zittern kann , то есть «Дрожу я, как только могу» – из «Последней надежды». Напоминает и об одной из шубертовских кличек в дружеском кругу – Kanevas , что примерно означает «Может ли он что-то?» или «Годен ли на что?» Это был неизбежный вопрос Шуберта относительно любого нового человека в его кругу. Может он написать стихотворение, играть на скрипке, танцевать польку, что угодно. Kanevas , то есть kann er was ? – а шарманщик играет was er kan , «как может», вероятно, не слишком-то хорошо.
Значение Шуберта, как композитора, в конечном счёте зиждется на невыразимой красоте и человечности его музыки. С историко-социологической точки зрения, это первый великий композитор, живший только благодаря рынку произведений искусства, без покровителя-мецената, без какого-либо положения при дворе или в церкви, без какой бы то ни было музыкальной должности-синекуры. Он вел богемный образ жизни, то благополучной в денежном отношении, то нет. Его друзья впоследствии говорили о его щедрости к ним, когда он бывал при деньгах: для них он становился Крезом. Он ни в коем случае не легендарный безвестный неудачник. Случалось, он извлекал из своих произведений большую выгоду. И гордился этим. Но такая жизнь рискованна, неизбежно влечет неуверенность в завтрашнем дне.
Очень долго занятия музыкой были чем-то не слишком почтенным. В средние века на музыкантов‐инструменталистов смотрели как на людей с ограниченными юридическими правами: они не могли быть судьями, свидетелями, поручителями, опекунами, землевладельцами, их не назначали на гражданские должности, не принимали в ремесленные гильдии. У них не было законных прав на обычное возмещение за причиненный им ущерб. Законы изменились, но пренебрежительное отношение осталось, вкупе с глубоко укоренившейся подозрительностью, касавшейся бродяжничества и близости их ремесла к мистике, магии, шаманско-демоническому. На них падала тень Гамельнского крысолова. В Франконии уголовный кодекс 1746 года содержал суровые кары для «воров, грабителей, цыган, мошенников, неимущих и других попрошаек», включая «скрипачей, музыкантов, играющих на барабанах, лютнях, и певцов». Швабский закон 1742 года предостерегает против бродяг, среди прочих – «шарманщиков, волынщиков, цимбалистов».
Шуберт сознавал свой пограничный статус – наполовину гений, наполовину наемный работник, – и новая экономическая ситуация лишь обостряла это понимание. Он никому не служил, однако, зависел от рынка. Два эмоциональных взрыва дают представление об угнетённости, которую он испытывал. В письме к родителям он жалуется в связи с публикацией песен на стихи Вальтера Скотта: «Если бы хоть раз я мог заключить честный договор с издателями – но в этом отношении мудрое благодетельное правительство позаботилось о том, чтобы музыкант навеки остался рабом жалких торгашей». Выше упоминавшаяся прогулка в Гринцинг с Лахнером и Бауэрнфельдом ради Heurige , молодого вина, событие, увековеченное рисунком Швинда, закончилась несколько часов спустя в пивной в венском предместье, где Шуберт», по словам Бауэрнфельда, пришёл в «восторженное состояние». Пришли два знаменитых музыканта из оперного оркестра, расточали комплименты композитору и просили его написать для них. «Нет, – ответил Шуберт, – для вас я ничего не буду писать». – «Почему? Мы имеем к искусству не меньшее отношение, чем вы». – Но этот ответ вызвал яростную тираду Шуберта: «Искусство? Музыкальные наемники, вот вы кто! Один из вас кусает медный мундштук деревянной палки, а другой раздувает щеки, дуя в рог! И вы называние это искусством? Это ремесло, дрянь ради денег, и ничего более! Вы, люди искусства! Вы не знаете, что сказал великий Лессинг? Как может человек проводить жизнь, только и делая, что кусая продырявленный кусок древесины! Вы называете это искусством? Дудари и скрипачи, вот вы кто, все вы. Человек искусства – я, я Шуберт, Франц Шуберт, который всем известен и которого всякий узнает! Кто написал великие, прекрасные произведения, которые вам и не снилось понять… Я, Шуберт! Франц Шуберт! И вы не забывайте этого! Если кто-то говорит об искусстве, он говорит обо мне, а не о вас, черви и насекомые… ползучие, грызущие черви, которых я должен был бы раздавать своей ногой, ногой человека, дотягивающегося до звёзд».
Иногда сомневаются в достоверности этого анекдота, переданного Бауэрнфельдом, но сверкающий молниями гнев, неистовая ярость, напротив, кажутся подлинным изображением Шуберта, того Шуберта, который вводил подобные пассажи внезапного и необычайного буйства в свои фортепьянные сочинения.
Шарманщик Мюллера, следовательно, должен был обладать особенной привлекательностью для композитора и музыканта, жившего на пороге современности, слишком хорошо осведомленного о том, что ему угрожает страшная нужда, воплощением которой оказывается старик. Знание о будущем развитии своей болезни, страшная участь сифилитика, подвергающегося физическим и моральным унижениям, могли только усиливать опасения Шуберта.
Раскрывая значения пятой песни шубертовского цикла «Липа», я старался не слишком акцентировать внимание на смерти, манящей нашептываниями, но не стоит отрицать очевидное – что смерть, неназванная и безымянная, входит в число ассоциаций, которые вызывает песня. Приближение смерти чувствуется в конце цикла, однако, все же неоднозначное. На кладбище нет места для скитальца, хотя он и хочет найти там покой, и он уходит прочь, опираясь на верный посох, громко запевая песню, чтобы отогнать мрачные мысли, а его последние слова перед появлением шарманщика – что лучше бы он не видел солнца. Неудивительно, что многие увидели в шарманщике саму смерть, это подкрепляется их постоянным соседством на изображениях XVI века в жанре «пляски смерти», Totentanz . Вот гравюра Гольбейна, на которой Смерть играет на шарманке Адаму и Еве во время изгнания из рая:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




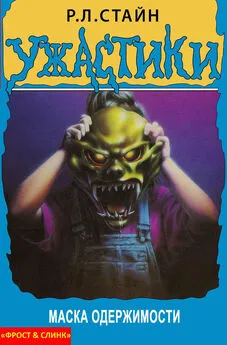

![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/603193/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery.webp)