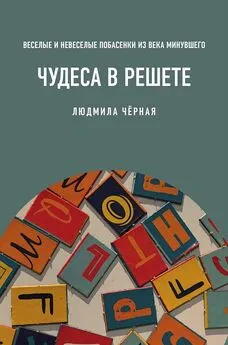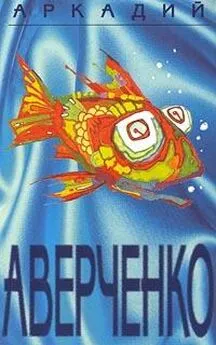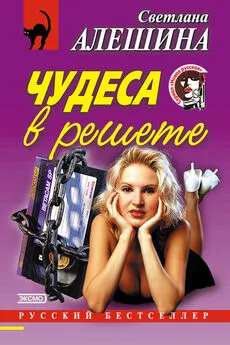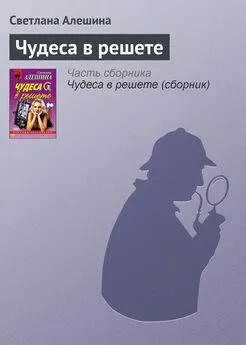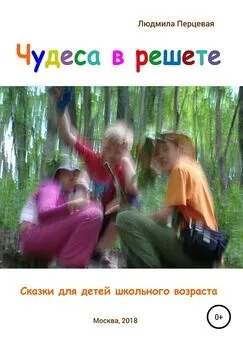Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Название:Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1650-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего краткое содержание
«Теперь мне 103. Вышли в свет две мои толстые книги. Пишу третью, хотя не уверена, допишу ли. Когда работаю, рука не дрожит. А когда раз в три месяца помощница Лена привозит меня в Сбербанк и надо расписаться за пенсию, руки начинают дрожать… Чудеса…»
Возможно, разгадка удивительной душевной молодости Людмилы Чёрной — в ее захваченности, очарованности жизнью и в самодисциплине. Высказываемые в книге суждения и оценки порой звучат вызывающе остро — тем интереснее знакомиться с образом мыслей автора и ее восприятием текущих событий. Перед нами не только свидетельство ровесницы «короткого XX века», но и, по выражению Н. С. Лескова, феномен «уходящей натуры».
Людмила Чёрная (р. 1917) работала журналисткой-международницей, переводила художественную литературу (Г. Бёлль, Э. М. Ремарк, А. Дёблин, Ф. Дюрренматт). Вместе с мужем, историком Д. Е. Меламидом, исследовала нацистский режим в Германии и написала книгу о Гитлере «Преступник номер 1». Издала в «НЛО» книгу мемуаров «Косой дождь» (2015) и публицистический сборник «Записки Обыкновенной Говорящей Лошади» (2018).
Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Напротив перегороженного зала — в своих «апартаментах», как сказано выше, — жила супружеская пара с девочкой лет двенадцати-тринадцати. И вот муж, средних лет господин, перед сном любил попарить ноги — именно попарить, а не помыть. Парка ног была долгой. И эту ежедневную оздоровительно-лечебную процедуру отец семейства желал проводить не у себя в комнате, а в холле напротив нашей двери. Супруг выходил на люди с большим тазом и табуреткой. Мадам водружала на полу рядом с табуреткой кипящий чайник и кувшин с холодной водой. Супруг засучивал брюки и опускал ноги в таз, предварительно закурив папиросу «Беломор» для полного кайфа!
В довершение всего скажу, что наша тогдашняя коммуналка в прошлом была, по слухам, публичным домом, принадлежащим некоему греку. А сама улица, где этот дом находился, — улицей красных фонарей.
После революции 1917 года дома терпимости уничтожили, и этот злачный район стал обычным районом в центре города.
Таков был быт коммунальной квартиры на Цветном бульваре… Утром — очередь в шаткий сортирчик, вечером — чужие ноги в тазу напротив двери.
Зачем я так подробно описываю все это, прервав рассказ о нашей Главной книге? Я ведь уже сказала: хочу оттенить необычность подарка судьбы.
Итак, в один воистину прекрасный день на мое имя (Люся Мельникова) и на адрес коммуналки пришло извещение о почтовой посылке из капстраны. Прошу прощения, но в ту далекую пору все страны делились на «кап» и на «соц», то есть на капиталистические и социалистические.
Ошеломленная, я сперва начала обдумывать варианты отказа: все-таки опасно получать посылки из капстраны. Конечно, Сталин уже умер, а Берию казнили. Извещение пришло не с Лубянки, а из нашего почтового отделения. Все же лучше отказаться. Но как отказаться? Под каким предлогом? Я не Люся Мельникова… Но начнется дознание — и т. д. и т. п.
В общем, проклиная все на свете, мы с мужем пошли в соответствующее почтовое отделение. К нашему изумлению, нас встретили очень радостно, не потребовали ни паспорта, ни другого документа. Попросили только поскорее забрать посылку. А посылка оказалась двумя тяжеленными ящиками, набитыми немецкими книгами, — по-видимому, почта не чаяла, как от них избавиться.
Всего значения бесценного Дара мы тогда не поняли. А ведь писатель прислал нам все, или почти все, труды по немецкому фашизму, изданные в Западной Европе и в США. И все на немецком, то есть американские, английские и французские исследования были в переводах на немецкий. Эта библиотека стала на долгие десятилетия нашей гордостью. Лишь в 1990-е наиболее серьезные книги вышли в России на русском языке. Но мы-то получили и смогли прочесть эти труды уже в конце 1950-х!
Боже мой! Каких историков там только не было: Буллак, Ширер, Фест, Хойне, Каллов… Словом, целая библиотека по национал-социализму.
Тогда меня особенно потрясли два обстоятельства: во-первых, элегантность, нарядность присланных книг. Белые суперобложки, красивые переплеты, отличная бумага, отличный шрифт. Даже на ощупь они отличались от наших тогдашних, напечатанных обычно на газетной бумаге, плохо сброшюрованных книжиц со слепыми фотографиями и с мутными или выцветшими рисунками на обложках. Во-вторых — и это поразило больше всего, — мы с мужем не могли понять, как книги дошли до нас, до почтового отделения на Цветном бульваре. Ведь вся без исключения печатная продукция, посланная в СССР из зарубежья, подвергалась жесточайшей цензуре. Разумеется, книги о фашизме, то есть политическая литература, считались особо крамольными — на них неминуемо поставили бы «шестигранник», своего рода каинову печать, даже если адресатами были бы издательство, журнал или газета, не имевшие своего спецхрана. Кроме того, на тему фашизма в 1950-х было наложено табу — не существовало такой темы в советском государстве.
Что же случилось тогда, то есть в хрущевскую эру, в нашей дорогой державе, с нашим дорогим тоталитарным строем, с нашей тотальной цензурой?
Причина в том, что после смерти вождя-людоеда произошел серьезный сбой в системе.
В марте «людоед» отдал концы, а уже в начале апреля освободили «врачей-убийц» — евреев и примкнувших к ним академика Виноградова, личного врача Сталина, и Егорова с Василенко. Дальше — больше. Убрали Лаврентия Берия. Втихую. Немного позже задвинули в небытие самых-пресамых верных соратников вождя: Молотова, Маленкова, Кагановича плюс Шепилов. А потом ХХ съезд — это и впрямь потрясение основ. Главное же — Архипелаг ГУЛАГ, еще не названный так Солженицыным, уже предстал во всей красе. Правда, Сталин еще лежал в мавзолее. Но, во-первых, быть там ему оставалось недолго — всего до ХХII съезда, то есть до 1961 года. А во-вторых, все же большая разница между тем, стоит вождь на мавзолее или в виде трупа лежит внутри мавзолея…
Словом, сплошная фантасмагория. Вроде бы после ХХ съезда пошли на попятную. Стопроцентные сталинисты подняли голову, но все-таки кое-кого сомнения одолели, и закачало страну туда-сюда, вправо-влево, вперед-назад. В нашем случае два ящика прекрасных книг из ФРГ дошли целехонькие до коммуналки на Цветном бульваре. И самое интересное, что уже через два месяца или через год их могли бы завернуть и отправить в спецхран, куда мне доступа не было. Тоталитарный строй, по-моему, не знает ни непрерывно-поступательного, ни явно-попятного движения. Он передвигается, наподобие кенгуру, скачками. Недаром целый период в жизни коммунистического Китая вошел в историю под названием «большой скачок»!
Итак, Д. Е. и я получили бесценный дар, библиотеку по фашизму, и тем самым основу для Главной книги. Подаренная Бёллем, она стала в нашей жизни чеховским ружьем: до поры до времени «висела на стене», просто лежала, готовясь «выстрелить» в последнем акте.
И все же, кроме библиотеки, была еще одна предпосылка, без которой мы не смогли бы написать своей Главной книги. Назову эту предпосылку «верностью профессии». Термин придумала не я, а поэт Межиров. Как-то в столовой Дома творчества в Переделкине я вслух удивилась, до чего хорошо стала писать одна молодая в ту пору поэтесса. А Межиров сказал: «Удивляться нечего. Она пишет все время. Сохраняет верность профессии».
Вот и мы с мужем при любых обстоятельствах сохраняли верность профессии — писали, писали, писали.
Попробую рассказать, как это было. Придется дать задний ход, вернуться назад из второй половины 1950-х, уже после смерти Сталина, в первые послевоенные сталинские годы. Из какой-никакой оттепели в жуткие морозы.
Война — как ни дико это прозвучит для нынешних пацифистов — дала нам, молодым, очень много. Муж сумел проявить свои недюжинные способности, делал нужное, ответственное дело. В двадцать четыре года стал начальником ведущей редакции — мозговым центром огромного коллектива ТАСС. Да и я несколько лет после войны работала плодотворно как журналистка-международница. Печаталась в «Известиях» — авторитетнейшей тогда газете.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: