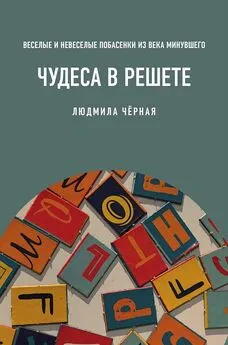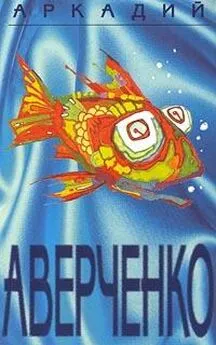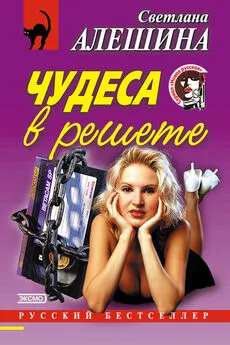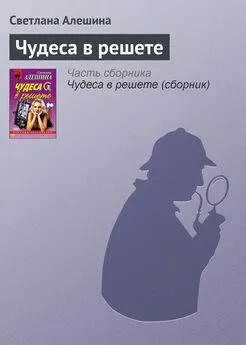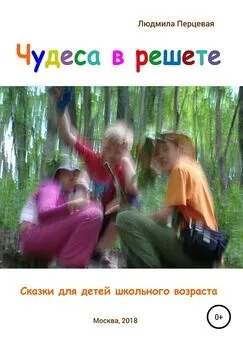Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Название:Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1650-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего краткое содержание
«Теперь мне 103. Вышли в свет две мои толстые книги. Пишу третью, хотя не уверена, допишу ли. Когда работаю, рука не дрожит. А когда раз в три месяца помощница Лена привозит меня в Сбербанк и надо расписаться за пенсию, руки начинают дрожать… Чудеса…»
Возможно, разгадка удивительной душевной молодости Людмилы Чёрной — в ее захваченности, очарованности жизнью и в самодисциплине. Высказываемые в книге суждения и оценки порой звучат вызывающе остро — тем интереснее знакомиться с образом мыслей автора и ее восприятием текущих событий. Перед нами не только свидетельство ровесницы «короткого XX века», но и, по выражению Н. С. Лескова, феномен «уходящей натуры».
Людмила Чёрная (р. 1917) работала журналисткой-международницей, переводила художественную литературу (Г. Бёлль, Э. М. Ремарк, А. Дёблин, Ф. Дюрренматт). Вместе с мужем, историком Д. Е. Меламидом, исследовала нацистский режим в Германии и написала книгу о Гитлере «Преступник номер 1». Издала в «НЛО» книгу мемуаров «Косой дождь» (2015) и публицистический сборник «Записки Обыкновенной Говорящей Лошади» (2018).
Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не верите? Ну, тогда скажите, что значит слово «телега»? Нет, не обычная телега, в которую впрягали лошадь, — а «телега» на языке 1930–1960-х годов?
«Телега» значила… донос. Но не донос, который грозил неминуемой смертью и адресовался в ГПУ-НКВД-КГБ, а всего-навсего донос из одного советского учреждения в другое. Допустим, человек (служащий) переходит из одного наркомата (министерства) в другой наркомат (министерство) — возможно, даже с повышением. Он уже заполнил множество анкет. Ему дали характеристики и по линии производства, и по партийной линии. Но одновременно в отдел кадров отправлена «телега», где отмечаются его дурные (с политической точки зрения) качества — например, мягкотелость (мягкость). Естественно, донос о мягкотелости был секретным, и, стало быть, важнее характеристики! Так что преуменьшать значение «телеги»-доноса в судьбе человека не следует!
А теперь скажите, что означал «партмаксимум»? И что означал «конверт»?
«Партмаксимум» в 1920-х и начале 1930-х означал максимальный оклад, который мог получать так называемый ответственный работник — член партии. К примеру, нарком (министр). Знаю, что этот «максимум» был минимальным. Так как же могли существовать ответработник и его семья? Ну, во-первых, он имел кое-что бесплатно — например, автомобиль с шофером, а также бесплатное лечение для себя, жены и детей. Имел ответработник хорошую квартиру и дачу за смешные деньги и в добавок кремлевский паек, то есть дешевые продукты, а также бесплатный отдых для себя и семьи.
Но после 1930-х, после Большого террора, ответработники захотели бóльшего. И стали получать «конверты», то есть дополнительные деньги к официальной зарплате — очевидно, в хорошо заклеенных конвертах.
Этих денег государству было не жалко: ведь ответработники были, как говорилось на советском сленге, «идеологически выдержаны и политически подкованы».
Ну а что значило трудиться в «ящике»? Это значило быть рабом в засекреченном НИИ (Научно-исследовательском институте), который не имел ни названия, ни адреса — только номер почтового ящика. Иногда «ящик» именовали «номерным институтом». Сотрудники «ящика» не имели права встречаться с иностранцами и ездить за границу даже тогда, когда турпоездки были разрешены. Уволиться из «ящика» тоже нельзя было.
Я не лингвист, не ученый-филолог, но кое-какие наблюдения за родным советским языком, прожив сто лет в России, все же сделала.
Например, поняла, что власть сразу же начала делить нас, население, на своих и чужих . Сперва делили по цветам.
Красные — свои , белые — чужие. И это немедленно отразилось на языке. Свои — это красноармейцы, красногвардейцы, красные командиры, просто люди с красными флагами (стягами), с красной ленточкой в петлице, с красной повязкой на рукаве.
«Смех чудится красный / Зверей-палачей… / Когда-то прекрасный, / Манивший вперед, / Нас ныне цвет красный / Лишь давит и гнет».
Появились в годы Гражданской войны и «зеленые».
Чужие — белые: белогвардейцы, белоподкладочники (царские генералы), беляки; были даже белополяки и белофинны.
Тогда же поделили население на классы: хороший класс — пролетариат, а также его представитель — пролетарий, или рабочий. Класс похуже — крестьянство и отдельный крестьянин. Хотя герб на красном флаге — это скрещенные молот (орудие рабочего) и серп (орудие крестьянина).
Однако крестьяне в нашей стране существовали только до конца 1920-х. В эпоху коллективизации (какое прекрасное новое слово!) крестьян частично уничтожили, частично загнали в колхозы.
Но и в 1920-е крестьян как таковых тоже не существовало: их поделили на бедняков, середняков, кулаков. Кулаков в ходе создания колхозов «уничтожили как класс».
Заведомо плохими классами были разгромленные красными помещики и капиталисты. Но и тут существовали градации. Помещики-дворяне делились на крупнопоместных и мелкопоместных. Скажем, Пушкин был из крупнопоместных, а Гоголь из мелкопоместных. Лев Толстой тоже из крупнопоместных, но он стал «зеркалом русской революции», а по выражению Горького, «человечищем» — поэтому ему простили даже графский титул…
Капиталисты-буржуи тоже были крупные и мелкие.
Хуже всего пришлось, по-моему, интеллигенции. Ее Ленин и ленинское окружение вообще не сочли классом — всего лишь прослойкой, которая болталась где-то между классом-гегемоном (пролетариатом) и мелкопоместными бедолагами. Натуральные «хлюпики», как их назвал Ильич.
Ну и, естественно, весь народ без исключения делился на партийцев и беспартийных (не путайте беспартийных с «беспаспортными бродягами» — космополитами, появившимися после войны с нацистской Германией!).
Все без исключения партийцы были большевиками. Другие партии в советской стране с самого первого ее дня вообще не признавались.
Уже в четвертом или пятом классе начальной школы мне объяснили генезис слова «большевик». Оказывается, в далеком 1902 году на втором съезде РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии) наиболее левые, радикальные ее члены во главе с Лениным при выборе в руководящие органы оказались в большинстве — и откололись от этого самого РСДРП, но до поры до времени остались под его вывеской, прибавив только букву «б», да и то в скобках. Получилось РСДРП(б). И именно эти «б» во главе с Лениным и, кажется, Троцким совершили Великую Пролетарскую Революцию в России…
Но не все так просто. Еще при Ильиче в партии появились уклоны, правый и левый, которые назывались также оппозицией. Уклонисты, или оппозиционеры, произносили неправильные речи. Их, видимо, увещевали, переубеждали, а иногда и наказывали исключением из партии «б», которую переименовали в РКП(б) — Российскую коммунистическую партию (большевиков). Впрочем, исключали не из партии, а из «рядов». Но исключенные в конце концов каялись (публично) и вновь вступали в те же «ряды».
Добавлю a propos: лучше не каялись бы, а сразу вешались или топились — ведь в годы Большого террора никто из кающихся не избежал казни в подвалах бесчисленных «Лубянок» на просторах родины. Но казнили уже не просто оппозиционеров, а оппозиционеров, превратившихся во «врагов народа».
Тут я сильно забегаю вперед, мы еще в 1920-х, и Ленин только-только успел все правильно поделить, но еще не успел объявить НЭП — новую экономическую политику.
Не думайте, однако, что меня смущает деление людей как таковое. Испокон века мы сами делили своих ближних на умных и глупых, на честных и жуликов, на добрых и злых, на веселых и мрачных (оптимистов и пессимистов), на толковых и бестолковых, на ленивых (Обломовых) и предприимчивых (Штольцев), а женщин — на красивых и некрасивых.
Но это еще не все. Существует множество добавочных, более мелких делений. Вспомним, как Лев Толстой в романе «Война и мир» пишет о двух молоденьких девушках, которых привезли на первый в их жизни бал. Обе барышни, что Наташа Ростова, что ее кузина Соня, — красавицы, обе грациозны и прелестны. Но… почему-то одна все же лучше… Цитирую Толстого:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: