Виктор Давыдов - Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе
- Название:Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- ISBN:978-5-4448-1637-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Давыдов - Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе краткое содержание
Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Комфорт имел и свою оборотную сторону. Вылезать из-под одеяла было сущей мукой — особенно утром, в насквозь промерзший полутемный воздух камеры. После чего следовало набрать ледяной воды в ведро, намочить-выжать тряпку и, дождавшись, пока руки чуть отойдут от холода, кое-как повозить ею по полу. Собрать лужу, натекшую за ночь со стен до середины камеры и кое-где серебрившуюся льдинками по краям. Заодно — смести мертвых тараканов, погибавших еженощно то ли от голода-холода, то ли от полной безнадежности — словом, от всего того, с чем обитавшие здесь люди еще пытались бороться.
Несмотря на то что в камере обитали пятеро и полы вроде было положено мыть по очереди, реально этим занимались только двое — я и спавший на соседней койке 17-летний малолетка Сережа Голубев. К счастью, Голубев частенько брал эту обязанность на себя, причем совершенно добровольно. Он не был мазохистом, получавшим удовольствие от ломоты в руках до самых локтей. Сережа имел вполне практичные мотивы для того, чтобы заниматься уборкой. Утреннее время, когда медсестра либо вообще не проснулась, либо была занята какими-то делами в процедурке, было для него самым удобным временем делать бизнес.
Бизнес Голубева заключался в том, что он обменивал у санитаров пайковые сливочное масло, картофельное пюре или куски жареного теста, которые здесь почему-то назывались «пончиками» — все, что считалось своего рода «деликатесами», — на табак. Курение в Первом отделении было строго запрещено, табак и сигареты не выдавались — но покупались у санитаров нелегально.
За кусочек масла размером с треть спичечного коробка Голубев получал закрутку дрянной вонючей махорки, и такая сделка считалась удачной. Однако добыть табак и спички, которые обычно входили в цену покупки, было только полдела. В камере побольше было легко спрятаться за чужими спинами, а то и вообще залезть под койку — и так обмануть всепроникающий взгляд медсестер. В маленькой камере № 4 у Голубева не было иных вариантов, как только лежа уткнуться в стенку носом и курить, пуская дым под кровать. Если паче чаяния в тот момент в дверном глазке появлялась медсестра, Голубеву приходилось потом плохо.
В дополнение ко всем этим неудобным аспектам камеры № 4 Голубев здесь был еще и единственным курящим. Так что даже если бы его и не выловили «на месте преступления», то плавающий в воздухе дым все равно указал бы на малолетку как на единственно возможного «преступника».
Все эти риски, как ни странно, не отвращали мальчишку — а Голубев был по виду просто пацаном и выглядел лет на 12–13 — от того же курения. По его признанию, курил он с десяти лет и научился этому в детском доме. Строго говоря, сиротой Голубев не был, мать его была жива и, возможно, даже здорова — если не считать болезнью тяжелый алкоголизм, по причине которого органы опеки и отправили Голубева с лучшими намерениями в детский дом.
Вредная привычка была приобретена там и закреплена во время последующего пребывания в довольно странном учреждении, которое Голубев называл на жаргоне короедкой. Это был интернат для малолетних правонарушителей, не попавших в лагерь только по причине юного возраста, — для тех, кому еще не было четырнадцати лет.
Рассказывал Голубев о короедке не без ужаса, и действительно получалось, что это заведение было неким гибридом монастырского приюта, концлагеря и армейского лагеря для новобранцев, сумевшим собрать все худшее из прочих учреждений. Дисциплина держалась исключительно на насилии, старшие отбирали у младших еду — и, видимо, в благодарность их еще и били. Били за нарушения режима и неких внутренних «правил», сходных с тюремными законами, били просто так, по графику. Как только Голубеву исполнилось 16 лет, он сбежал и сознательно совершил преступление — только чтобы расстаться с короедкой и попасть в лагерь. Вместо лагеря Голубев попал в СПБ — хотя никаких отклонений за ним вроде и не замечалось.
В чем заключалось его преступление, Голубев не распространялся. В довольно туманных воспоминаниях о «воле» — которой он, по сути, никогда не знал, разве что урывками во время побегов из короедки — фигурировали какие-то драки, ножи, да и статья у него была бакланская — особо злостное хулиганство.
Все то, что делало пребывание в камере № 4 для Голубева неудобным и почти невыносимым, меня как раз вполне устраивало.
В эту камеру после двух ночей в карашпинке меня перевел начальник Первого отделения, капитан Валентин Царенко. Зэки прозвали Царенко Быком, хотя сложения он был далеко не атлетического и ростом тоже не отличался. Тем не менее во всяком зэковском прозвище есть доля правды. У Царенко была привычка, разговаривая, смотреть на собеседника исподлобья, что и придавало его лицу некое «бычье» выражение. Довольно скоро я выяснил, что и вегетарианское содержание своей клички Бык-Царенко тоже оправдывал — по крайней мере в сравнении с другими психиатрами СПБ. Начальника Четвертого отделения Белановского я уже видел.
Заходя в тот самый кабинет, где менее суток назад я сидел перед Белановским, внутренне я был готов к новому сеансу оскорблений и угроз. Как ни странно, ничего подобного не произошло. Бык провел вполне стандартный психиатрический опрос, начав с детских лет и наследственностей, на этом утомился и свернул беседу. Спросил, курю ли я, и закончил нравоучительным назиданием — либо угрозой, в зависимости отточки зрения: «Идите лечитесь. Будете нарушать режим — буду наказывать». На этом беседа закончилась, вернее, почти закончилась, ибо последней фразой Царенко был тот же самый вопрос, который я уже слышал от Белановского: «Почему вас перевели к нам из Казани?»
Каждого новоприбывшего заключенного — без исключений — после первой же беседы с врачом вызывали в процедурку пить лекарства уже в следующую раздачу. Вернувшись после беседы с Быком, я тоже внутренне сжался, услышав очередное «На лекарства!», — но и на этот раз меня не вызвали. Это было странно: лекарства в Первом отделении получали, кажется, все. Все, кроме меня.
Где-то в громадной карательной машине не зацепились колесики. Большая Лубянка, которая по настоянию самарского УКГБ приказала МВД перевести меня в Благовещенск, не сочла нужным поставить в известность о причинах перевода опера Благовещенского СИЗО — тем более психиатров СПБ, и они, пребывая в неведении, продолжали задавать мне все тот же странный вопрос.
Ответ же на него был очень прост и лежал на поверхности. После свидания с мамой в Казани Любаня передала информацию в «Хронику текущих событий» — наверное, открытым текстом по телефону, — после чего самарские чекисты запаниковали. С точки зрения секретности информации Казань была учреждением крайне ненадежным. Туда каждый месяц можно было приехать на свидание, а самарские зэки освобождались на родину, так что могли уже в деталях описать, чем, кого и за что убивали нейролептиками. Понятно, что самарских чекистов все это сильно расстраивало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
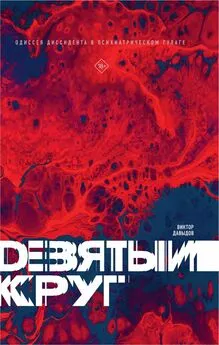

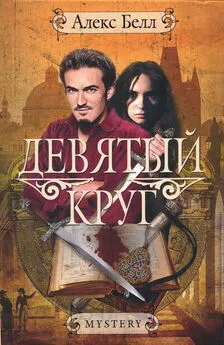
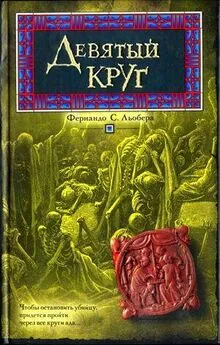

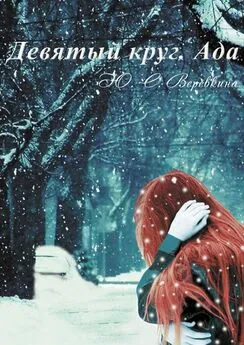

![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/1089869/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres.webp)


