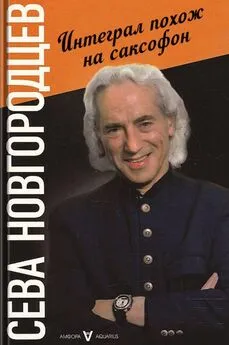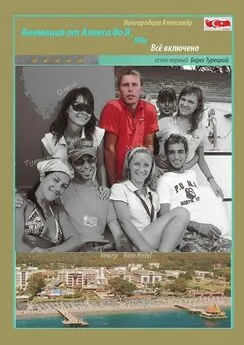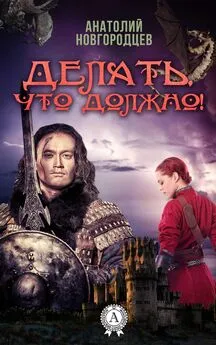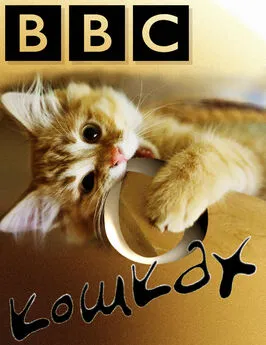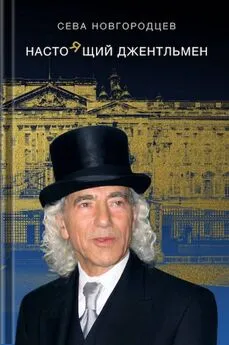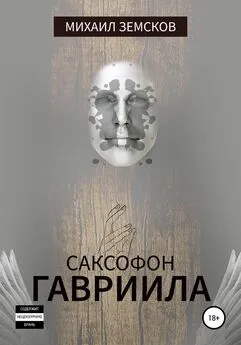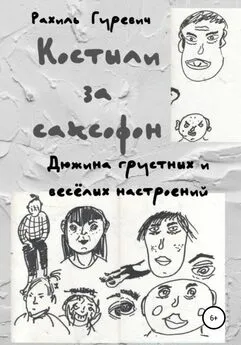Сева Новгородцев - Интеграл похож на саксофон
- Название:Интеграл похож на саксофон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Амфора
- Год:2011
- Город:СПб
- ISBN:978-5-367-01810-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сева Новгородцев - Интеграл похож на саксофон краткое содержание
Интеграл похож на саксофон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Двое джазовых ведущих сугубо не сошлись во мнениях, и Лео в частных беседах не раз удивлялся: как прежняя ленинградская жизнь создала у него пелену на глазах, как он мог восхищаться тем, чего на самом деле не было. Словно в сказке «Голый король».
Мой племянник Антон, выпускник Тулузской духовной академии, а ныне рукоположенный монах в католической Общине Всех Блаженств (Эммаус, Израиль), до начала своей религиозной карьеры проработал год в Публичной библиотеке в Питере. Из пыльных недр Публички он привез мне в подарок стопку учетных карточек с названиями кандидатских и докторских диссертаций. Они поразили меня настолько, что и сегодня, много лет спустя, я могу воспроизвести многие из этих названий: «Воспитание патриотизма на уроках математики в 8-м классе средней школы», «Разделение навоза на жидкую и твердую фракцию» или «Расчет светопроемов окон в условиях ясного дня».
Эти авторефераты утвердили меня в давнишних подозрениях, а именно — КПД советской науки был примерно как у паровоза, пять процентов на движение, остальное — в бесполезный жар, пар и свисток. В 1960-е годы говорили: «Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан». За кандидатскую степень давали прибавку к жалованью, кажется целых 30 рублей, поэтому защищались все, кто мог. Естественно, делу надо придать законный вид и толк, представить работу в таком виде, чтобы не было сомнений — перед нами Наука, недоступная простому человеку. Ощущение высокого знания давал непонятный, наполненный замысловатыми терминами язык. Наукообразная речь со временем стала непременным атрибутом профессионального самоуважения и авторитета, просочилась во все сферы, в том числе и музыкальную критику.
Но мне кажется, что у Ефима Барбана наукообразность — не защита от посягательств на его авторитет, это его естественное состояние. Возможно, мы слышим древний голос генов избранного Богом народа, десятков поколений пращуров, писавших каждый свое толкование священных текстов и создавших, по эволюционной теории, особый, талмудический вид мышления. А может быть, наоборот, этот тип мышления был с самого начала, а все остальное — его производные.
Я понимаю, что ворошу сено, сушеные события забытой травы, но вот еще одна выдержка, заслуживающая внимания.
Ефим Барбан, наш джазовый Белинский, однажды подхватил кем-то брошенную обидную фразу в адрес И. В. Много лет спустя, когда Вайнштейн уже был в Канаде, а имя его стало забываться, я сделал ТРИ (!) получасовых передачи о нем на «Радио „Свобода“». Там было много музыки, много добрых слов, но там я вспомнил и этот эпизод, тут же добавив, что время опровергло и отмело прошлые небрежные суждения об Иосифе Владимировиче. Но вот беда, кто-то сказал И. В., что я ту обидную фразу произнес якобы от своего имени, и он по-стариковски крепко обиделся на меня. Я объяснился с Геной Гольштейном, который был нашим связным с И. В., но недоразумение не исчерпалось.
Баташев А. Умер Иосиф Вайнштейн // Полный джаз. 2001. № 26.ГРОМ С НЕБА
В шутливом послании на шестидесятилетний юбилей Иосифа Владимировича музыканты назвали его «тренером сборной Ленинграда по джазу, игравшей по системе „все в атаке, Вайнштейн в защите“».
В 1966 году только титаническая энергия и виртуозное искусство театральной интриги позволяли ему отражать бесконечные удары со всех сторон. Потом в глубинах советского ледника что-то треснуло, подтаяло, сместилось. Люди, приближенные к источникам власти, почувствовали это первыми и при каждой возможности пользовались любым послаблением.
В Москве были люди с именем и связями — Утесов, Лундстрем, Людвиковский, Рознер. У Леонида Утесова, например, был статус «Государственного оркестра», со своим бюджетом и администрацией, да и у Эдди Рознера возможности имелись немалые, приглашение к нему было очень заманчивым.
Осенью 1966-го в Ленинграде тайно появился директор оркестра Эдди Рознера, он приехал охотиться за головами. Переманивать поодиночке ему было бы нелегко, музыканты выбирают партнеров как жену, поэтому у директора были полномочия набирать сколько надо. Предварительные переговоры уже состоялись (кажется, через аранжировщика Виталия Долгова).
В ноябре грянул гром — в Москву, к Рознеру, уходили все наши звезды: Гена Гольштейн, Костя Носов, Додик Голощекин, барабанщик Стас Стрельцов. Такое ощущение невосполнимой потери, наверное, испытывали только на войне, когда теряли близких.
После ухода старших братьев роль старшего сына перешла ко мне. Иосиф Владимирович свалился с первым своим инфарктом, я ходил к нему в больницу, докладывал обстановку. Вместо Гены в оркестр пришел Тохтамыш. Так его все и звали, потому что ничего больше не требовалось. Про себя Тохтамыш говорил, что он грек, хотя фамилия отдавала татаро-монгольским игом. Был он человеком выдающихся способностей, но не в джазе. Никогда не забуду, как каждую свободную минуту он пилил надфилем что-то крохотное, зажатое в крепких пальцах. Через месяц показал — филигранный крестик из титановой стали, выточенный безупречно.
Как-то тромбонист и мой близкий приятель Саша Морозов, носивший сильные очки, случайно уронил на пол раскрытый футляр с саксофоном, лежавший для безопасности на шкафу. Мой тенор вывалился из него на лету и приземлился раструбом, смяв себе внешность. Я знал, что во всем Ленинграде был только один человек, который мог мне помочь. Тохтамыш.
Я привез к нему пострадавший редкий инструмент. Тохтамыш покрутил головой и сказал: «Приезжай завтра». Назавтра Тохтамыш встретил меня у дверей с хитрым прищуром. На столе лежал мой «Сельмер» с идеальным раструбом, как будто и не падал он никогда со шкафа. Я долго разглядывал поврежденное место, но не нашел и следов.
— Как тебе это удалось? — с изумлением спросил я.
— Я долго не мог найти закругление нужного диаметра, — с сияющим лицом изобретателя сообщил Тохтамыш, — а потом нашел, и знаешь что — свою пятку!
И показал, как он натягивал толстую латунь раструба на закругление пятки, точно подошедшей по размеру.
Отличный был человек, Тохтамыш. Звали его — Саша.
ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ, ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР
Сейчас, простаивая часами в транспортных пробках, трудно представить, что когда-то улицы советских городов были почти пусты. Автомобиль являлся не средством передвижения, а роскошью, поскольку стоил примерно восемь годовых зарплат советского инженера. Машины имелись у тех, кто смог привезти их с войны, как трофей.
У Иосифа Владимировича тоже был старенький «опель».
Он сохранился, потому что жил в теплом гараже во дворе дома на 5-й Советской, под окнами двух комнат коммунальной квартиры. Теплый гараж был еще большей редкостью, он вызывал зависть, желание раскулачить. Первую попытку предприняла аптека, располагавшаяся в доме, ее служебный вход смотрел прямо на двери гаража. Государственное предприятие в таких имущественных спорах ни в какое сравнение с каким-то отдельным гражданином не шло. Вопрос был практически решен, райсовет подмахнул заявление аптеки о передаче ей гаража, находящегося в частном пользовании у гражданина Вайнштейна И. В. Не на того нарвались!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: